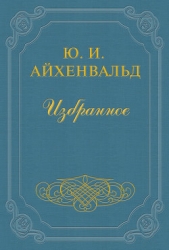Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
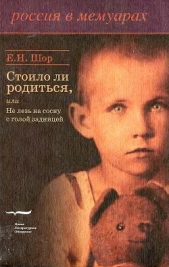
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меня отвели в местную парикмахерскую и остригли «под мальчика» волосы, которые я зимой начала отращивать, а дома сразу вымыли голову керосином. Мария Федоровна вычесывала свои и мои волосы частыми гребнями; новым, купленным в магазине, и старым, костяным, от которого не ускользала самая мелкая дичь. И я заметила (чего до того вроде бы и не видела, а если видела, не понимала) темное кольцо вокруг макушек светловолосых головенок деревенских детей — это были вши. Вши заводились у меня и следующим летом, и позже зимой в городе, но больше меня не стригли, а только вычесывали.
Осенью школа № 10 имени Фритьофа Нансена уже не существовала. Вместо нее создали две школы, № 110 и № 100, и Фритьоф Нансен выпал из нашей жизни. Первая занимала здание в Мерзляковском переулке со знаменитым Иваном Кузьмичом, а вторая находилась в здании на углу Столового и Ножевого переулков, а директором в ней стал Иван Фомич. Иван Фомич был довольно полный мужчина и довольно лысый, с лицом яйцеобразной формы, с крошечными, прилипавшими к губе усиками под носом и в блестевших очках, за которыми были красивые и холодные глаза. Я оказалась в 100-й школе, а дети знаменитостей — в 110-й. Мария Федоровна настаивала, чтобы мама что-то сделала, но мама ответила: «Они меня не сочли…» — и на том дело кончилось.
В новый класс со мной перешло только несколько человек. Дети тут были не такие бедные, грязные и не такие простые, как в старом классе, — будто состав класса изменился вместе с городом, который тоже стал богаче и в магазинах которого появилось много разной, мною раньше не виданной еды. Мы тоже стали жить и есть лучше и снимать дачи просторнее и дороже, приобрели единственную (при жизни мамы) крупную вещь — рояль (рояль стоил в два с половиной раза дешевле пианино). Мы с Марией Федоровной ездили смотреть его. Рояль продавался за ненадобностью. На крышке у него отпечатались круглые следы. «Наверно, кастрюли горячие ставили», — сказала Мария Федоровна. Рояль перевозили на подводе, без меня. Мария Федоровна восседала на крышке рояля (ножки были отвинчены), и когда подвода проезжала мимо церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, какие-то ребята из нашей школы ее увидели и закричали: «Баушка! Баушка едет!» Мария Федоровна, смеясь, радовалась своей популярности.
«Дидерихс фререс» [46], — читала я на крышке рояля французское слово на немецкий лад. Ко мне второй год ходила новая «немка», Елизавета Федоровна. Она была рекомендована Елизаветой Федоровной, сестрой Марии Федоровны. Я слышала, как мама заговорила с ней по-немецки, когда та пришла в первый раз (она и потом разговаривала с ней по-немецки). Елизавета Федоровна была мне неприятна с ее голубыми, водянистыми, выпуклыми глазами, с лицом, на котором было как будто слишком много кожи, готовой образовать складки, хотя пока их не было. Елизавета Федоровна тоже не испытывала ко мне симпатии и не старалась ее почувствовать, а я все-таки старалась. Но по отношению к ней (не сразу, правда), чуя некоторую безнаказанность, — хотя я вряд ли догадывалась, что ей не хотелось бы потерять урок, — я стала проявлять низменность своего характера: плохо готовила уроки, упрямилась даже, чего не позволяла себе в школе, так что один раз она пожаловалась Марии Федоровне, и «порядок был восстановлен». Только в последний год моих с ней занятий, в год маминой смерти, я стала находить в них удовольствие. Я вдруг почувствовала, что мне стало легко говорить и понимать, и книга, которую мы читали на уроках, была мне интересна. До этого я мямлила в пересказах и ответах, а с мамой сразу переходила на русский язык, но теперь я стала проникаться духом немецкого языка и находить очарование в словах и фразах, и в некоторых стихах, особенно в следующих:
Я стала находить очарование и в городе, в старом городе XIX века, в котором жила. Прелесть города становилась мне ясна одновременно с прелестью музыки. Я слышала то, что я играла и что играла Таня (Мария Федоровна ее тоже начала учить): гаммы, Ганон, этюды Черни [48], пьески из «Школ игры на фортепиано», пьесы и песенки из старых альбомов Марии Федоровны. Так что не произведения мне нравились, а самая основа музыки, сочетания звуков. У меня не было музыкального дара, но мне нравилось играть, отчасти из-за получавшейся музыки, отчасти из-за спортивного беганья пальцев по клавишам — от него так же хорошо думается и мечтается, как и от ходьбы. Рояль, несмотря на то что был велик и потеснил все остальные предметы, не оказался чужд нашей комнате с кроватями, с испачканной чернилами клеенкой на столе, с географической картой на стене и с глобусом на шкафчике. Те звуки, которые из него извлекались, я относила к музыке высшего сорта, но любила всякую музыку, и она играла во мне постоянно. Я без конца фальшиво пела популярные в то время советские песни, безоблачно веселые песни Дунаевского и другие, более скрипучие, а Мария Федоровна издевалась над ними:
Мария Федоровна: «А по маленьким не ходили?»
Теперь уже не сажали девочек с мальчиками за одну парту, и все сели, кто с кем хотел. А я не знала, куда сесть, и, не без вмешательства Марии Федоровны, села недалеко от доски за парту с девочкой, которая сидела одна. Ее звали Зоя Рунова, и у нее был брат-близнец, который учился в нашем же классе. Все равно я плохо видела, что написано на доске, и смотрела в тетрадку к Зойке или писала со слуха — приходилось изворачиваться, а об очках мне и слышать не хотелось, слишком я была чувствительна к тому, что думают обо мне окружающие. Над очкастыми смеялись, а мама сказала: «Если наденешь очки, потом их не снимешь».
Зойкин брат Вовка был озорник, хулиган, он сидел на парте впереди, оборачивался к нам, начинал драться с Зойкой, а один раз вывел из себя учительницу русского языка Марию Георгиевну. Она велела ему выйти из класса, а он не выходил. У нее сделалось совершенно красное, пунцовое лицо, она схватила обеими руками Вовкину руку и стала стаскивать его с парты, но он крепко держался за спинку парты другой рукой, упирался ногами и тормозил всем телом, и ей не удалось вытащить его.
Когда происходили сцены такого рода, я жалела жертву, кто бы ею ни был. Если жертвой был учитель, я раздваивалась: одна часть меня находила удовольствие, вместе с моими одноклассниками, в травле учителя, другая его жалела, и вторая была, пожалуй, больше первой. В книгах, которые я читала, описывалось преследование учеников учителями. Ученики справедливо этих учителей ненавидели и, когда могли, брали реванш. В школе мне приходилось наблюдать противоположное: ученики доводили учителей до исступления, и ничего им за это не было. Меня удивляло отсутствие жажды знаний у детей. Мне-то хотелось знать как можно больше, как будто я для того появилась на свет. Меня удивляла также малая способность, какой-то щит, поставленный на пути проникновения знаний, и я видела, когда им ставили хорошие отметки, что они выучили урок, не понимая его, что у них нет знаний. Бедной Марии Георгиевне, со скудными завитыми волосенками, с запавшими, маленькими, матово серыми глазками, с широкими, как будто от холода потрескавшимися губами (ее бросил муж, и у нее был ненормальный ребенок), я раз испортила педагогический процесс. Она попросила нас найти место в «Крестьянских детях», где говорится, что жизнь этих детей не так завидна, как описывалось до этого, ей хотелось постепенно подвести нас к выводу: «зато беспощадно едят его мошки», «зато ему рано знакомы труды», а я подняла руку и сразу прочитала: «И вырастет он, если богу угодно, а сгибнуть ничто не мешает ему», разрушив ее план.