В наших переулках
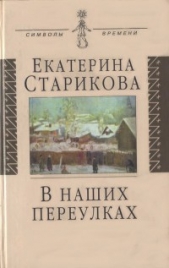
В наших переулках читать книгу онлайн
Книга профессионального литератора Е. В. Стариковой представляет собой воспоминания московской интеллигентки о своих родителях и многочисленных родственниках, о детстве и юности, проведенных и в Москве, и в деревне — на родине ее отца, — и за городом, на природе; причем все подробности взаимоотношений людей и быта даны на историческом фоне, эпоха ощущается в каждом повороте событий, в каждом слове повествования.Наибольшую ценность этим воспоминаниям придает несомненный писательский дар Стариковой. Читатель получает прекрасный образец настоящей русской прозы; книга — от первой до последней страницы — читается буквально на одном дыхании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы прогостили в Волкове три дня. Торопились в Москву каждый по своим неотложным делам. Неотложным… Я еще на обратном пути и во Мстёру заехала. Если бы знать будущее… Если бы знал отец, что никогда ему больше не бывать в родных местах, никогда не увидеть ни своей «няньки» Анюты, ни сурового Макара. Если бы я знала, что вернусь сюда еще только один раз через тридцать лет. Тридцать! Изменилось бы что-нибудь, если бы человек знал свое будущее? Вряд ли он ему поверил бы, вряд ли узнал себя в нем.
Мы снова уходили из Волкова пешком: прямо за огороды, через поле, на Селивановскую, остатками болот, на Свято-озеро до узкоколейки, где надеялись сесть на рабочий поезд, ползущий целую ночь до Балахны. От Балахны ходил до Горького уже пригородный поезд. Такой мы тогда избрали путь. Саня и старики провожали нас. И снова, как когда-то: сначала решили только до леса, потом до соседней деревни, потом еще немножко… Рабочий поезд уходил в полночь, и сумерки застали нас на болотах. Вечерний туман стлался по травам. И вдруг из тумана резко и отчетливо раздался гомон чужой речи. Я узнала язык и вздрогнула: немцы! Здесь? Да ведь август сорок пятого! — успокоила я себя. И в самом деле, нас обогнала небольшая группа пленных немцев под конвоем: веселые и здоровые мужики смеялись и шутили. Да ведь и для них кончилась война, и они остались живы. Вот и конвоиры смеются вместе с ними. Как все странно!
Завидя светлые и в сгущающейся темноте воды Свято-озера, мы попрощались с Одуваловыми окончательно: это было традиционное место здешних расставаний. Здесь всегда прощался с провожавшими его родными наш отец, уезжая из родного села в Нижний, в Астрахань, в Семипалатинск, в Иркутск, а потом уже всегда в Москву. На этом перекрестке зыбкой болотистой тропы и прочно уезженной дороги обычно крестила его Анна Федоровна и кланялась, кланялась в пояс, пока он совсем не скрывался из вида. Вот и теперь — в последний раз. Так я и запомнила навсегда стариков: Анну Федоровну, склонившуюся в низком поклоне словно под тяжестью своей шали, и маленького, но твердо выпрямившегося Макара Антоновича с фуражкой, прижатой ладонью к черной бороде на груди. Александра тоже где-то тут, рядом. Только этот ее образ на перекрестке дорог расплылся, слился с более ранним и более поздним. Ее-то я еще увижу въяве хоть и через десятилетия.
На нашем обратном пути из Волкова пленные немцы нам встретятся еще не раз. В качающийся и трясущийся по узкоколейке вагончик уже на рассвете вдруг вошел железнодорожный служитель и приказал: «Спустить шторы!» А мы и не заметили, что над крошечными оконцами прикреплены сверху клеенчатые лоскуты — военное затемнение. Но теперь-то зачем? И конечно, как только служитель вышел, я отогнула клеенку и стала смотреть во все глаза: длинные бараки, вдоль них аккуратные, из тонких бревнышек, светящиеся березовой корой скамеечки, жестяные умывальники на таких же нарядных столбиках… Что это? А вот и обитатели бараков, многие раздеты по пояс, в одних военных штанах, поливают друг другу на спины воду из ведер. Пленные немцы! Мы едем вдоль бесконечных болот и через бесконечный лагерь. Но как же в нем чисто и аккуратно! И почему нам-то запрещают на это смотреть?
Вокзал в Горьком был забит людьми не меньше, чем вокзалы сорок первого года. Только толпа другая и настроение другое. Очень много военных, вообще мужчин, и все решительны, напористы, своего не уступят. Шум громких голосов стоит над давно не мытой толпой. Здесь не только сесть не на что, но и спокойно стоять было трудно, а папа приказал, чтобы мы с Лелей никуда не двигались, пока он не разузнает насчет билетов в Москву. Когда он вернулся, я по лицу его увидела, что билетов нет. Снова ехать в Ковров? Но и до ковровского поезда надо ждать несколько часов, а приткнуться некуда. Оглядываясь, мы замечаем странно стоящие железнодорожные деревянные скамьи со спинками: они образуют загородку, а сиденья их обращены внутрь. И кто же сидит на них? Немецкие военные, кажется, генералы, во всяком случае очень высокие чины. Человек шесть-семь на всех скамейках. И какая холодная надменность на их лицах! Как откровенно они презирают толпу замызганных веселых победителей! Я невольно поджимаю грязные пальцы в открытых ременных босоножках, хотя немцы никого не удостаивают взглядом: нога на ногу, холеные руки на колене, а глаза — куда-то в пустоту, поверх голов толпы. Молоденький сержант с ружьем, охранявший пленных, вдруг раздвигает загородку из диванов и обращается к нам: «Садитесь, папаша, и вы, девочки. Что вам стоять, когда они сидят». И тыкает пальцем в сторону генералов. Сержант явно нарушает инструкцию охраны военнопленных, но в нем еще живет вольный дух победившей армии. Этот дух еще витал над всей вокзальной толпой. А я навсегда осталась благодарна сержанту, избавившему нас от унизительного стояния перед надменными побежденными.
Мою приблизительную обувь образца сорок пятого года презирал и Макар Антонович, может, потому перед немцами я так боязливо поджимала пальцы. «Это что же за мода такая пошла нынче в Москве?» — спросил он меня в первый день нашего прибытия в Волково, дотрагиваясь своей клюкой до моих голых пальцев на ногах. «Очень удобно и не жарко». — «Да, уж верно не жарко», — ухмыльнулся Макар, неодобрительно качая головой. Вот этот его взгляд, и его самодовольная гордость за Павла, и клюква, проданная стаканами с воза, когда мы так жестоко голодали, — все это вместе и стало преградой между нами и Волковым. Я не отдавала тогда себе в этом отчета, я вижу причину теперь, из дали лет. Мы со своими дипломами и степенями не могли еще раз просто приехать, а тем более пешком и босиком прийти на родину отца. Ради его чести мы должны были туда въехать, всех одарить, показать, что и мы не лыком шиты. А это не получалось. Чтобы «въехать», надо было еще очень много сделать и успеть. Забот хватило на целую жизнь.
3
Долгие годы у меня было ощущение, что связь с ландехским миром оборвана, тот мир остался в прошлом. Папа, конечно, по-прежнему писал туда и слал трудно ему достававшиеся «гостинцы». Ну а я отгородилась от Волкова. Нет, конечно, память о нем, о Ландехе, всегда жила во мне, это она питала мой острый интерес к крестьянским вопросам, она продиктовала мои литературные интересы в 50–60-е годы. Но непосредственное теплое родственное чувство замкнулось в прошлом. Папа передавал нам деревенские новости: вот старшая Санина дочь переехала в Гороховец, вот и вторая вышла замуж на сторону и живет теперь в Мугрееве (так стали теперь называть поселок на берегу Свято-озера), вот похоронили Анну Федоровну. А Макар все чудит, совсем старый стал. Мы смеялись, слушая слова Макара Антоновича из его письма к отцу: «А помните, Василий Александрович, какая прекрасная жизнь была в 1913 году…» Тогда все успехи социализма официальная статистика мерила уровнем тринадцатого года. Мерил их своей мерой и Макар Антонович перед самой смертью. Все эти вести доходили до меня, трогали меня, но воспринимались все-таки главным образом как свидетельство естественного течения жизни: детство и родственники милыми тенями уходили все дальше в прошлое. В настоящем, где давно уже спутники летали вокруг земли, Гагарин поднялся в космос, прошли первые диссидентские процессы, наши войска вошли в Прагу, в этом настоящем деревенским родственникам не оставалось места. В 1961 году не стало нашего отца, связь с Ландехом совсем ослабела.
И вдруг — это уже в начале 70-х годов — письмо из Волкова от Александры Макаровны: «Здравствуйте, дорогие наши родные Екатерина Васильевна и Соломон Константинович… низкий поклон вам от моих детей… А помните ли вы»… Письмо по всей форме деревенской эпистолярной вежливости. Как забилось мое сердце! Каким стыдом опалило щеки: не могла первой догадаться узнать, живы ли. Я тут же ответила со всем пылом раскаяния, вспоминая стариков, могилы, детство, задавая вопросы про всех и вся. И буквально через несколько дней пришел ответ (не так уж и далеко оказалось от меня до Волкова!) — и тоже горячий, со слезой, с благодарностью за память, с осторожными вопросами, все ли живы, с уговорами приехать, навестить. И забвение, и раскаяние — они, видно, были обоюдными. Но вот весной 1973 года нагрянула внезапно к нам в Москву вместе со своей младшей дочерью Катей Александра Макаровна. Я встречала их у входа в наше метро после телефонного звонка с вокзала — плюшевая кацавейка (извиняюсь, «жакет»), штапельная юбчонка, резиновые сапоги, все те же веселые карие глаза, но во рту нет передних зубов — колхозница на столичных улицах, знакомая и типичная фигура деревенской старухи. Да, почти старухи, несмотря на темные без седины волосы.
























