В наших переулках
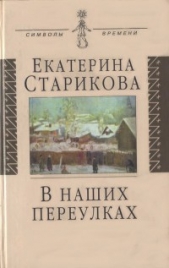
В наших переулках читать книгу онлайн
Книга профессионального литератора Е. В. Стариковой представляет собой воспоминания московской интеллигентки о своих родителях и многочисленных родственниках, о детстве и юности, проведенных и в Москве, и в деревне — на родине ее отца, — и за городом, на природе; причем все подробности взаимоотношений людей и быта даны на историческом фоне, эпоха ощущается в каждом повороте событий, в каждом слове повествования.Наибольшую ценность этим воспоминаниям придает несомненный писательский дар Стариковой. Читатель получает прекрасный образец настоящей русской прозы; книга — от первой до последней страницы — читается буквально на одном дыхании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На пристани мы довольно быстро попали все на тот же «Робеспьер», бегающий по-прежнему по Клязьме. Выждали, когда выгрузят с него раненых — на костылях, с палками, на носилках, — и втащили свои тюки по трапу. Конечно, «Робеспьер» за девять лет пообтрепался и потускнел, и ни о каких каютах не могло быть и речи. Капитан, посмотрев на папу и нас, детей, тут же помог нам расположиться напротив трапа на медном листе, отделяющем машинное отделение от нижней палубы. По старой волжской традиции это считалось самым почетным и удобным местом для бескаютных пассажиров: там было тепло. Мы согрелись и задремали.
В Вязниках — снова нанятая телега, снова тюки, снова вокзал. Но там нас еще ждало пугающее известие. С завтрашнего дня, с 22 сентября, запрещается въезд в Москву без пропусков: немцы стремительно двигались на восток. Билетов в Москву уже не продавали. Только до Коврова. Мы доехали до Коврова. Снова вокзал, уже переполненный эвакуированными. Все стремятся из Москвы на восток. Одни мы — на запад. Тюки, мешки, чемоданы. В закутке, сооруженном из них, по полу ползают грудные дети. Билетов нет. Папины скулы вздулись, а рот сжался. «Ничего страшного, — утешала я его. — В Коврове — военные заводы. Мы с Алешей устраиваемся на завод, нам дают общежитие…» — «Ну что ты говоришь! Да и Алеше только четырнадцать», — устало перебивает меня папа. И уходит. И приходит через час с билетами до Владимира. Владимир — почти Москва, почти дом. Все успокаиваются.
Успокоились зря. Во Владимире билетов на запад вообще не продавали. Все. Мы отрезаны. Ехать некуда. Ночь и бессилие. Однако, местные жители советуют: идите на междугороднюю автобусную станцию, говорят, автобусы в Петушки еще ходят. Автобусная станция на противоположном от вокзала конце города. Папа уговаривает каких-то оборванцев перетащить туда самые большие наши тюки. Идем за оборванцами, сами тоже нагруженные, через город. Идем по крутой тропинке около самой кремлевской стены. Ноги шагают машинально, я полусплю-полубодрствую. И Владимир, впервые тогда увиденный, предстал фантастической сказкой: осеннее черное звездное небо, и в нем — белые соборы, белый кремль.
Очнулась я от полусна только при виде громадной беспорядочной очереди к закрытому окошку автобусной кассы. Новое препятствие! Панические слухи пробегали по очереди то и дело: немцы все ближе к Москве, автобусы идут сегодня последний день, въезд в Москву без пропуска уже завтра будет невозможен. Когда рассвело, состоящая почти из одних деревенских женщин толпа, сбивая очередь, ринулась в беспорядочной панике к открывшемуся окошечку кассира. Продав несколько билетов, женщина-кассир так же истерично, как и толпа, стала кричать, что в таком беспорядке она не будет продавать билетов, и захлопнула окошко. Бабы завыли и еще теснее у него столпились. И тогда наступила одна из самых героических минут нашей с братом юности. Я громко крикнула в толпу: «Разберитесь по порядку, иначе никто не уедет!» Меня не слушали, продолжая отпихивать друг друга от окошка. И тогда я скомандовала: «Алеша! А ну, откидывай их всех!» И мой брат, как лев, бросился в толпу женщин и, хватая их за плечи, с силой стал отбрасывать их от окна. Вот когда пригодился наш бесконечный предвоенный волейбол и упорные упражнения брата на турнике. А я кричала: «Разберитесь по очереди и замолчите!» За спиной какой-то голос почтительно прошептал: «Смотри, как там парнишка зверствует. Молоденький». И в ответ другой голос: «А разве с нами по-другому можно?» Я заметила в толпе три-четыре мужских фигуры и обратилась к ним: «А вы что стоите? Помогите мальчишке!» Мужчины словно очнулись, пробрались к окошку и загородили его с трех сторон своими спинами. Толпа вдруг успокоилась и выстроилась в очередь. Мы заняли в ней свои места. Окно кассы открылось. А я тогда поняла, что с толпой можно справиться только силой и непререкаемым авторитетом, за которым стоит внутренняя уверенность в своей правоте.
Когда подошла наша очередь и папа попросил у кассира пять билетов, она ответила, что на ближайший автобус осталось только три, а билеты продавались только на ближайший, далеко не рассчитывали. Папа растерянно оглянулся на меня, и я властно сказала ему: «Бери три». Он, как под гипнозом, взял, и окошечко захлопнулось. Еще более растерянно он сказал мне: «Что же нам делать с тремя билетами?» Я разъяснила: «Ты, Анна Ивановна и Галя уезжаете и забираете все вещи. На всякий случай. Мы с Алешей приедем следующим автобусом». — «Вы останетесь одни?!» — «Не страшно, — жизнерадостно ответила я. — Мы же первые в очереди». Ничего другого уже и не оставалось делать. Автобус стоял у дверей станции и наполнялся народом. Алеша помог отцу погрузить тюки. Я прочно заняла место у самого окошка кассира, не уступая ни на минуту завоеванной позиции, хотя мы навели такой порядок и заслужили такое уважение очереди, что о посягательстве на наши права и речи не могло быть. Автобус отошел, и Алеша присоединился ко мне. Окошко открылось только через два часа, но они нам с братом показались блаженством: мы первые и никаких вещей! И в самом деле мы благополучно получили свои билеты и с ощущением заслуженного отдыха откинулись на спинку сидения еще одного подошедшего автобуса. Никакие страхи и сомнения не тревожили наши юные души. Мы еще не знали, что такое война и Россия. Автобус по дороге сломался. Около часа шофер озабоченно возился под ним. Мы и тогда не испытали страха: крыша над головой, удобные сидения, законные билеты — все это давало нам чувство незнакомой уверенности. Автобус и вправду благополучно поехал дальше среди вечереющих пустынных полей. Сто километров были преодолены, и мы подкатили к станции Петушки, тогда еще ничем, кроме воровства, не прославленной. И тут я увидела на ступенях вокзальчика отца. Никогда не забуду его лица: оно, неузнаваемо исхудавшее за эти часы, с обтянутыми скулами, все было обращено на дорогу, на автобус, на его двери, наконец на нас, соскочивших с видом победителей на землю. «Живы? Скорее, скорее, поезд на Москву — через полчаса и вообще последний!». Мы кинулись, как отдохнувшие молодые звери, на свои тюки и выволокли их на платформу. Поезд и в самом деле скоро пришел. Он был почти пустой. Никто не ехал в Москву, все — из нее. Поезд был дальнего следования, с откинутыми верхними полками, на которых мы с Алешей тут же растянулись и заснули, не чувствуя ни жесткости, ни холода. Нас разбудили уже в Москве.
Я не помню, как, на чем мы доехали до дома. Это было неважно. И пешком бы дошли. Мы были в Москве, мы вернулись. Здесь была мама, сестра, абажур над столом, наш древний секретер, ландехская ширма… Под босой ногой — нас гнали мыться хотя бы и холодной водой — гладко и прочно ощущался наш дивный паркет — звезды из ромбов. Окна в нашей комнате, разбитые взрывной волной еще в июле, уже были зашиты фанерой, но так казалось даже уютней, укромней от бесконечных пространств нашей родины.
Я, может быть, слишком подробно описала нам-то памятный, но в масштабах совершающихся событий ничтожный эпизод по нескольким причинам.
Во-первых, отец. В тот миг, когда я увидела его на ступенях станции Петушки, острая жалость пронзила мне сердце, но одновременно и легкое недоумение: как ты мог оставить своих детей в непредсказуемости российской пустыни и хаоса войны? Сама же его уговорила и сама же в душе… нет, не упрекнула, а удивилась его слабости.
Второе впечатление от этого дня нашего возвращения — удивление перед порядком, наведенным в этой аморфной стране жесткой сталинской рукой. Армии отступают, немцы рвутся к Москве, миллионы двигаются лавиной на восток, а автобус Владимир-Петушки ходит по расписанию, и билеты на него продаются за простые деньги (туда бы сегодняшних королев бензоколонок!), и перестанет ходить только, когда прикажут, и поезд, хоть и последний, но пришел вовремя. И пропуска в Москву будут завтра, а сегодня — обыкновенный контролер. Удивительно. Из нашего сегодня особенно удивительно (пишу эти слова в 1994).
И, наконец, последняя третья причина, почему я подробно остановилась на этом эпизоде. За месяц нашего путешествия мы повзрослели. Приехали в Волково детьми, бездумно надеющимися на родителей и родственников: они все решают. Вернулись в Москву людьми, надеющимися только на себя. На всю жизнь — только на себя. Путешествие сорок первого года было первым уроком. Потом этой науке нас будет четыре года учить война. И выйдем мы из нее повзрослевшими прагматиками. Юности не было. Чтобы выжить, надо было усвоить жесткие правила предстоящей нам жизни. Весь народ их тогда усваивал, и весь вышел из войны другим. Дети — в первую очередь. Романтика — самого разного рода романтика — осталась за чертой сорок первого года.
























