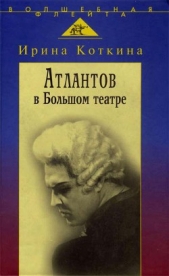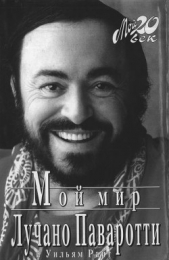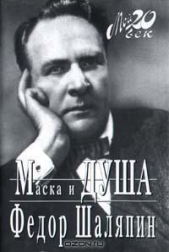Записки оперного певца
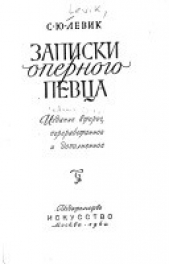
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После летнего перерыва М. Е. Медведев превратил свой класс в «Киевские оперные высшие музыкальные и драматические курсы профессора пения М. Е. Медведева». Он пригласил нескольких преподавателей для обучения своих питомцев теории музыки, одну из лучших артисток Соловцовского театра для обучения нас дикции и снял большое помещение с концертным залом. Первой новостью сезона явились более частые, всегда переполненные ученические вечера с платным входом.
Занятия со мной были направлены главным образом на художественную отделку изучаемых произведений. Те же арии, которые я пропевал в минувшем сезоне, предстали предо мной в новом виде. Внимание педагога было сосредоточено уже не столько на процессе звукоизвлечения и элементарной динамике, сколько на освоении стиля,
<Стр. 109>
смысла, характера того, что пропевалось. Исполнение становилось все энергичнее, горячее, даже как-то внутренне напряженнее. Настаивая на том, что мимика рождается музыкальным переживанием, а не смыслом выпеваемых слов, которые представляют вторичный фактор, Медведев не допускал ни одного холодного звука, но в той же мере ни одного вялого слова. На то, чтобы спеть романс Чайковского «Ни слова, о друг мой», сплошь и рядом уходили те сорок-пятьдесят минут, которые отпускались на весь урок, так что не оставалось времени для вокализов. В результате мне стало казаться, что приобретенные за первый год технические навыки постепенно теряются.
На основании некоторых собственных неудач и длительных наблюдений я считаю недостаточное внимание к вокализам со стороны многих педагогов коренной ошибкой их преподавания. Певец должен петь вокализы всю жизнь.
В 1915 году мне как-то довелось быть у И. А. Алчевского за час до его отъезда на спектакль. И вот он в течение тридцати пяти — сорока минут, сам себе аккомпанируя, то стоя, то сидя, то в полный голос, то в четверть пел вокализы. А ведь Иван Алексеевич был выдающимся вокалистом! Ведь именно он имел мужество, пропев несколько лет на сцене Мариинского театра, сказать себе: «А петь-то я не умею!». Именно он несколько раз кардинально переучивался (главным образом у Фелии Литвин) и изменил всю свою манеру давать звук. И именно он после пятилетнего примерно перерыва покорил Петербург почти совершенным исполнением труднейших теноровых партий, в частности в мейерберовских операх.
На заданный ему однажды вопрос, что больше всего помогло ему в преодолении его былых вокальных дефектов, он ответил одним словом: «Экзерсисы!». О важности этих упражнений читатель прочтет несколько дальше — в очерке о Фелии Литвин.
Мне представляется, что в период учебы легче всего следить за вокальными успехами ученика по исполнению им упражнений. Потому что в любом законченном произведении можно хорошей фразировкой замаскировать техническое несовершенство. При исполнении же вокализов техническая проблема остается обнаженной и легче поддается контролю. Пожалуй, целесообразнее было бы на экзаменах по крайней мере половину времени отдавать вокализам, контролю за разрешением чисто технических
<Стр. 110>
задач. Пора, скажем кстати, заняться и сочинением новых упражнений — русских. Глинка, Рахманинов и Глиэр положили основу вокализам, которые содержат в себе технические задачи на художественной основе, с них и нужно брать пример. Пока же новые вокализы не созданы, вокальным педагогам не следует отказываться от давно признанных вокализов Бордоньи, Конконе или Панофки, которые повредить не могут. Пренебрежение к преодолению чисто технических задач принесло и продолжает приносить немало вреда. Впрочем, работа над экзерсисами — экзамен не только для учащегося, но и для педагога... Кто знает, не родилась ли «теория» о ненадобности экзерсисов в первую очередь у беспомощных и невежественных педагогов и не была ли она подхвачена всякими спекулянтами от искусства из демагогических и корыстных целей?
4
Из отзывов Медведева о крупных артистах его времени приведу несколько самых интересных.
— Природа часто распределяет свои блага несправедливо и неравномерно, — сказал он как-то. — Если бы Стравинский обладал голосом Касторского или даже Цесевича, Шаляпин не был бы единственным на всем земном шаре. Талант Стравинского был не меньше шаляпинского. К тому же в некоторых отношениях Стравинский был тоньше Шаляпина: он никогда не шаржировал. Шаляпин в роли Фарлафа, например, — не рыцарь-трус, а карикатура на него. Стравинский играл труса-рыцаря, это было не менее смешно, но гораздо тоньше.
То же и Ершов. Если бы у него не было этого зажатого (горлового) тембра, он бы, может быть, и обогнал Шаляпина. Потому что и его драматический талант не меньше. Я совсем недавно видел его в «Китеже». Должен сказать, что такой своеобразной и трудной партии нет во всем оперном репертуаре. Ершов меня просто поразил. Безусловно, в его исполнении есть нечто кликушеское. У всякого другого это было бы невыносимо, а он с величайшим мастерством использует все свои недостатки, особенно этот горловой, зажатый тембр; некоторую природную истеричность он превращает в экстаз. Это, знаете, типичный случай, когда победителя не судят.
<Стр. 111>
Избыточность выразительности — дефект исполнения. Но у Ершова все это настолько ярко, талантливо и, главное, в такой мере одухотворено настоящим вдохновением, что ни с какими обычными нормами к нему не подойдешь.
Будь у Ершова другой звук, он бы искал других красок и при своей талантливости несомненно находил бы их. Но кто может поручиться, что его роль в «Китеже» не проиграла бы от этого? Ершов — это колоссальная, чудовищная сила.
Из русских артисток, которых мне уже не пришлось услышать, Медведев чаще всего вспоминал Е. К. Мравину и Е. А. Лавровскую.
В Мравиной он больше всего ценил совершенно исключительное обаяние всего ее артистического облика, необыкновенную поэтичность и высокую культуру исполнения.
Что касается Лавровской, то он уверял, что такого «страстного тембра» ему, пожалуй, больше слышать не довелось.
— Это был огонь палящий,— сказал он о ней как-то.
Из баритонов Медведев больше всего выделял П. А. Хохлова, долгие годы считавшегося непревзойденным исполнителем роли Онегина, и Б. Б. Корсова. У них, по его словам, были не только выдающиеся голоса, но какие-то им одним свойственные особенности исполнения.
— Вы должны жалеть, что вы их не слышали: их спектакли были наглядными уроками,— заключал Медведев.
В частности, однажды рассказывая об интеллигентности некоторых артистов, он сказал о Корсове:
— То, что он по образованию не то художник, не то архитектор, ему очень помогло. Он умело строил то, что он пел, и этот немецкий ганц акурат [все аккуратно], которым он отличался, тоже был ему очень полезен.
— А почему немецкий? — спросил я.
— Потому что он немец и зовут его Готфрид Геринг. Только с переходом на сцену он стал Богомиром.
О теноре Ф. Комиссаржевском он отзывался не как о певце, а как о замечательном актере.
— Вот у кого надо было учиться, как держаться на сцене. Он умел быть холодным с виду и горячим внутри. Он, пожалуй, родился для драмы, а не для оперы.
<Стр. 112>
Из иностранцев, много певших в России, Медведев больше всего рассказывал о братьях-поляках Решке (теноре и басе), неоднократно подчеркивая их высокую исполнительскую культуру. Всем известным баритонам он предпочитал француза Мореля.
— До него я не знал, что можно сделать из роли Яго, — рассказывал Медведев, — а после него меня уже никто не удовлетворял в такой мере, как он. Я склонен думать, что Верди сочинял своего Яго в расчете именно на Мореля. Никому не удавалось так тонко и легко провоцировать скандал в первом акте и с таким невинным лицом предстать перед Отелло. Так подло бесшабашно никто не пел «Застольной» песни, ни у кого я не видел такого расчетливого негодяйства, как у Мореля.
Увидя его впервые, я подумал, что он нездоров или забыл партию, до того естественно он подбирал слова для ответа на вопросы Отелло. Ни у кого, даже в драме, я не слышал такого низкого торжества в сцене с платком. И никто так просто, как бы между прочим, не произносил слова: «Вот он — наш лев». Он не ставил мне ногу на живот, как это делают все Яго, а, наоборот, брезгливо отворачивался: вы, мол, все думали, что Отелло большой человек, а он — вот что: истерик, ничтожество. И при этом Морель замечательно владел первоклассным баритоном. Среди французских артистов он соперников не имел.