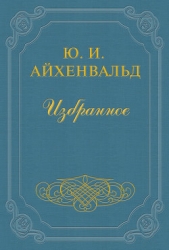Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
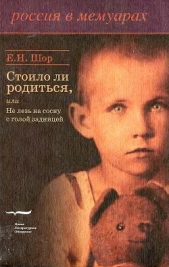
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это я вспоминаю о школе. На уроках я еще держалась как-то, но на переменах чувствовала себя совершенно потерянной. На одной из перемен тоска и тревога вытеснили даже страх непослушания, я не могла сладить с ними, пошла к выходу и довольно ловко, среди входивших и выходивших, проскочила в дверь, не ответив на чей-то окрик: «Ты куда?»
Никто не погнался за мной, и я пошла домой. Я знала, что совершаю два преступления, равных которым не бывало в моей жизни: бегство из школы и возвращение без провожатого домой, причем второе представлялось мне серьезнее первого — по дороге нужно было перейти бульвар и улицу, где было три трамвайных линии, и два переулка, и я, при всем моем смятении, старалась идти осторожно, как будто меня видит кто-то из моих взрослых.
Мария Федоровна сама открыла дверь. Она была поражена и после первых, естественных, вопросов: «Что случилось? Неужели ты пришла одна?» — она, очевидно, оказалась на перепутье между жалостью и строгостью. И хотя приласкала не так, как мне хотелось, но зато и не наказала. А я разве могла бы объяснить — я и теперь не сумею — невозможность существования вне моего привычного мира.
На следующий день Мария Федоровна снова отвела меня в школу. Мы писали палочки (хотя весной после проверки меня записали во 2-й класс, осенью я оказалась в списке 1-го класса; мама была в командировке, и Мария Федоровна отложила выяснение дела до ее приезда), а следующим был урок труда. Учительница показывала нам, как из цветной оберточной глянцевой бумаги делать вертушки. Такие вертушки, прикрепленные по нескольку штук к палочкам, сколоченным в виде креста, продавались на улице в праздники, как и воздушные шары, свистулька «уйди-уйди» и прочее. Мне не покупали эту игрушку, но я видела, что вертушки вращались, когда с ними бегали. Секрет их изготовления открывался нам, но, если бы я тогда могла спокойно думать, мне не понравилось бы соединение школы с праздником, я всегда буду разделять эти вещи. Но я старалась не поддаваться тоске и тревоге. Потом весь класс был в зале, по-видимому, на уроке физкультуры, хотя мы оставались в платьях. Нас поставили в круг и велели взяться за руки. Слева от меня стоял мальчик, он мне сказал: «Дай руку, крокодил. Ты на крокодила похожа». Боль пронзила меня и заслонила белый свет. Мне захотелось исчезнуть отсюда, перенестись в место, где бы я была избавлена от страдания, страдания незаслуженного, не вызванного ни виной, ни ошибкой, вытеснявшего врожденную радость жизни. Я была еще слишком мала, безответный подопытный зверек, чтобы возмутиться, восстать против него, даже чтобы спросить: за что или хотя бы почему оно?
Я не заплакала, дала руку мальчику и безразличной девочке справа. Мы бегали кругом, нам показывали какую-то игру, но для меня уже не могло быть никакой радости от движения. Вместо следующего урока нас повели на Никитский бульвар (сентябрьский день был теплый и сухой) собирать сухие листья. С нами была не только учительница, но и одна или две женщины, матери кого-то из учеников. Я попросила одну из них, придумав предлог — головную боль, отвести меня домой. Это была женщина чуждого мне типа, не похожая на маму, возможно, жена военного, но она отнеслась ко мне с добротой. Она не поверила в мою головную боль, расспросила меня, и я наивно рассказала о причине моего горя — я еще не научилась делать железное лицо, чтобы никто не догадался, как мне больно. Женщина сказала что-то учительнице и без каких бы то ни было возражений отвела меня домой, она только сомневалась, хорошо ли я знаю адрес, что меня удивляло. Она передала меня Марии Федоровне.
Мария Федоровна, по-видимому, не знала, что со мной делать, и решила не водить меня в школу до маминого возвращения 10 сентября. Несколько дней отсрочки… Несколько дней для ребенка — это много больше, чем для взрослого, но я чувствовала, что потерпела поражение, оказалась не на высоте. Я это особенно чувствовала днем, когда все дети нашей квартиры были в школе, а взрослые на работе, и я сидела в столовой за большим столом, а в пустой комнате тети Эммы мяукал в одиночестве Зебр. Со стороны Марии Федоровны я чувствовала осуждение.
Мама приехала, сходила в школу, и меня зачислили во 2-й класс.
Школа, в которой учились Олег, Таня и Золя, находилась в соседнем переулке, а моя (школа № 10 имени Фритьофа Нансена) — за Никитскими воротами.
Мама, когда выбирала школу, хотела, чтобы меня хорошо учили, чтобы ничто не мешало учиться и чтобы никто не оказывал на меня дурного влияния. В этой школе учились дети высокопоставленных лиц, а директор Иван Кузьмич был знаменит на всю Москву.
Учительница, которую звали Марией Петровной, спросила, как меня зовут, сколько мне лет и какая у меня национальность. Я ответила «еврейка» с гордостью, потому что знала, что благодаря революции прежде унижаемые евреи стали равноправными и уважаемыми. Но класс вдруг загудел враждебно и насмешливо, чего я никак не ожидала. Мария Петровна посмотрела в мою тетрадку и сказала: «Как ты плохо пишешь». Потом ученики читали. Они совсем не умели читать и читали как-то странно: произносили вполголоса или шепотом, шевеля губами, все буквы — «т-р-у-д-н-о», а потом пытались составить из них слово, что далеко не всегда получалось. Мария Петровна велела мне читать. Я встала и, держа перед собой книгу, стала читать. Читала я совершенно свободно. Класс замер, как будто услышал что-то необыкновенное, и сама Мария Петровна тоже замерла: я читала лучше их всех. И правда, Мария Петровна читала так, как читают малокультурные, не очень грамотные люди — не успевая посмотреть вперед, не улавливая общего смысла текста, от слова к слову, останавливаясь не там, где нужно.
Тем временем тоска и тревога опять росли во мне, а класс был еще более чужд и враждебен: в 1-м классе каждый был сам по себе, а здесь все были объединены в одно. Впереди всех, почти у стены, в проходе стояла отдельно парта, а мальчик, который сидел на ней, много раз поворачивался ко мне и строил гримасы, нагонявшие на меня страх. И на какой-то перемене, вопреки всем запретам, я опять ушла из школы домой.
Существовали как бы две разных меня. Одна не была ни робкой, ни застенчивой, охотно разговаривала с незнакомыми людьми и радовалась всякой новизне. Иногда она даже бывала храброй — по неведению. Весной в городе Мария Федоровна ходила в темно-лиловом «английском» костюме и в черной шляпе из тонкой «итальянской соломки». Мы зашли с ней в магазин в соседнем доме, где продавались ткани, обувь и чулки. Около прилавка стояло несколько человек, Мария Федоровна протиснулась к прилавку, а я стояла рядом, и мои глаза находились на уровне карманов Марии Федоровны. И тут я увидела, что парень лет 16–17 протягивает руку и запускает ее в карман Марии Федоровны. Я хлопнула его по руке. Его реакция была неожиданной для меня: он свирепо забормотал угрозы в мой адрес (а чего я могла ждать?), что вызвало во мне не столько страх, сколько отвращение. Вокруг говорили, что у него мог быть нож… Другая «я» появлялась, когда я чувствовала враждебность окружающего мира. Еще до того, как пошла в школу, я с удовольствием подходила к телефону и передавала трубку маме или Марии Федоровне. Но позвонить по телефону не могла: как только в трубке раздавался голос «телефонной барышни», меня леденила неприязнь, которая чудилась в этом голосе, я ничего не могла произнести, и телефон отключался. Скоро набор стал автоматическим, и я набирала номер и вызывала знакомых мамы — люди, которые подходили к телефону, не пробуждали во мне робости.
Дома мне было уже не так хорошо, как раньше. Мама сказала мне, что убегать из школы не следует, и я оказалась одна между молотом и наковальней, деваться было некуда. Может быть, мама могла бы поговорить со мной, но она этого не сделала, может быть, она не понимала всей важности того, что со мной происходит? Спасла меня все-таки мама. Она договорилась, что Мария Федоровна будет сидеть на уроках: в этом здании был завучем добрейший Артемий Иванович.