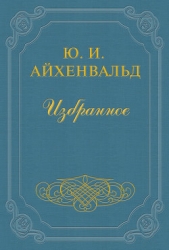Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
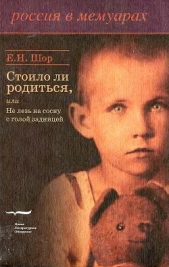
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После того как мы, поднявшись пешком на пятый этаж, вошли в квартиру Веры Владимировны и посидели с ней некоторое время, она ввела нас в спальню, где были ее старушка-мать и совсем маленькое существо с темно-желтой кожей, черными глазами и черными, совсем прямыми волосами. Существо мало шевелилось и ничего не говорило. Вера Владимировна сказала, что оно выучило украинские стихи, и оно стало говорить совершенно непонятно: «За золозе зу зу, за золозе сёлны…» («На дороге жук, жук, на дороге черный…»). Ей было три года, она была младше меня на четыре года. Ее кожа была покрыта красными пятнами. Марию Федоровну это привело в негодование. «Как вы могли пригласить нас к паршивому ребенку?» — спросила она. Но Вера Владимировна объяснила, что это не парша и не зараза: в детском доме в виде эксперимента детей кормили только соей, а у Юфей от сои появились эти пятна.
Но больше всего я любила бывать у сестры Марии Федоровны, Елизаветы Федоровны, и любила, когда она к нам приходила. Мне очень нравилось, как она шутила. Она приехала раз летом на Пионерскую, и у нее так разболелась голова, что она весь день пролежала на раскладной кровати Марии Федоровны не шевелясь и ничего не ела. Вечером у нее все прошло, и она объяснила, что это мигрень, и сказала перед отъездом: «Наша мать собиралась умирать, умереть не умерла, только время провела». В другой раз в Москве мы сидели за столом в столовой, Мария Федоровна и Елизавета Федоровна разговаривали, а я переписывала из учебника стихотворение под заглавием «Три щетки» («Этой щеткой чищу зубы, а вот этой чищу обувь…» и т. д.), и чтобы на меня обратили внимание, произнесла вслух: «Три щетки», а Елизавета Федоровна залилась смехом. Я не сразу поняла, над чем она смеется, а она повторяла: «Трещотки, трещотки, это ты про нас?»
Елизавета Федоровна с мужем жили в Трубниковском переулке. Они занимали одну довольно большую комнату в маленьком, одноэтажном старинном дворянском особнячке, из каких состояли арбатские переулки. У особнячка была высокая дверь, за ней лестница из нескольких ступенек, за которыми скорее площадка или прихожая, чем коридор, и двери в несколько комнат. Обычно мы ездили к Елизавете Федоровне на трамвае, который ходил от Никитских ворот и потом по Арбату.
Окна комнаты Елизаветы Федоровны выходили в маленький дворик, который мне очень нравился, хотя я не могла понять всей его прелести, на другой стороне дворика был низкий, совсем погружавшийся в землю флигель. Но и в окна Елизаветы Федоровны я могла заглянуть со двора. Дворик был вымощен большими, светлыми каменными плитами, между ними росла короткая трава узкими полосками. Во дворике никогда никого не было, и что-то во мне тянулось к тишине и покою.
Однажды в начале лета мы были у Елизаветы Федоровны днем. Мария Федоровна и Елизавета Федоровна разговаривали, а меня отправили гулять во дворик. Мне было немного не по себе, как всегда одной в чужом месте. Сбоку, не знаю откуда, вышли два мальчика, примерно моего возраста, один чуть постарше другого, и предложили играть с ними в чижа. Они удивились, что я не знаю эту игру. Я соврала: «У нас во дворе в чижа не играют» (меня не пускали во двор). Они меня научили: в этой игре плоской битой раскидывают чурочки вроде городков. Мальчики были хорошие, не озорники, не грубые, и я бы играла с ними с еще большим удовольствием, если бы не боялась, что обман будет раскрыт, — они ни разу не усомнились в том, что я мальчик. Я старалась делать все так, как делают мальчишки: бросать с локтя и т. п. (как я читала в «Приключениях Гекльберри Финна» и как сама наблюдала). Игра кончилась, потому что меня позвали, и наступило облегчение, хотя играть с этими добрыми, ничем меня не обижавшими, не задевавшими мальчиками было очень приятно. Я и радовалась, что так совершенно вошла в роль, и мне было как-то неловко, совестно даже, может быть, именно потому, что мальчики были такие хорошие.
Зимой (мне было шесть лет) Золя заболела дифтеритом, и ее родители умоляли, чтобы меня и детей Березиных куда-нибудь увезли, иначе Золю пришлось бы отправить в больницу, чего все тогдашние родители боялись. Я уже рассказывала о нашей жизни в Немчиновке в доме, принадлежавшем портнихе, знакомой Марии Федоровны, и ее мужу-часовщику. Тут я только хочу сказать, что жизнь в чужом доме сопровождалась для меня постоянным страхом и, наверно, тоской, плохо мною осознаваемой, и еще меньше осознавалось мной ожидание чего-то самого страшного, чему постоянный страх служил предзнаменованием. Из-за этого я не наслаждалась, как можно было бы, пребыванием за городом зимой — единственным до моих тридцати с лишним лет. Правда, природа во всей своей зимней красоте показывала себя с грозной стороны: я чувствовала, что оцепенение мороза несет в себе смерть. Ожидание страха оправдалось: вечером явилась милиция и хотела увести Марию Федоровну в тюрьму (Мария Федоровна не взяла с собой паспорт). Марию Федоровну в итоге не тронули, но страх у меня остался.
Тогда городская жизнь еще не была отделена от круговорота природы. Зимой было много снега, и весной он таял и около тротуаров бежали коричневые ручейки, в которые пускали бумажные кораблики или просто бросали щепочки, бумажки, чтобы посмотреть, как быстро они плывут. Мостовые были из булыжника, и лошадиные подковы высекали из него искры.
Весной меня водили смотреть ледоход на Москве-реке. Это считалось опасным, так как ледоход сопровождался резким, холодным ветром, и меня тепло одевали. Мы смотрели с Каменного моста. Большие, толстые в разрезе куски грязного льда плыли по реке, и это в высшей степени однообразное зрелище было настолько радостно впечатляющим, что никак не хотелось уходить оттуда.
Я все больше любила маму, несмотря на то что мало ее видела. Когда мне было три-четыре года, бабушка была всегда при мне, мама нет, и мама представлялась мне приближающимся и обволакивающим меня теплым облаком чувственной нежности. Такой нежности я не испытывала ни к бабушке, ни позже к Марии Федоровне, при всей моей любви к ней. Я знала, была уверена и не ошибалась, что мама меня любит, и мама никогда не была строгой ко мне, но она и не умела быть строгой. Мама была доброй до беззащитности, и мне повезло, что то единственное, что может тронуть сердце, даже озлобленное, было у моей мамы и я узнала, что оно есть на свете.
Мама проводила за лето дней десять — двенадцать подряд на даче и приезжала на день-два. В выходные дни ездить на поездах было чрезвычайно трудно. Мы с Марией Федоровной выходили к станции и, стоя наверху откоса, смотрели, как подходят поезда. Крыши вагонов были ниже нас, и на крышах, держась за трубы, ехали мужчины и молодые люди, а в дверях, держась за ручки, висели на ступеньках и рядом (так же было в Москве на трамваях) еще люди, тут бывали и женщины. «Гроздья виноградные», — говорила Мария Федоровна.
На даче мама большую часть времени проводила в гамаке, но она не качалась, как я (до тошноты), а просто сидела, работала, читала и для отдыха штопала. Она совсем не умела шить, но штопала виртуозно, у нее получалась совершенно правильная, без единой ошибки в переплетении, сеточка. Она штопала свои тонкие, всегда черные, фильдеперсовые [26] чулки и мои носки и чулки в резиночку. Но иногда мама ходила с нами в лес за грибами. При ее полноте ей было трудно наклоняться, и она не любила собирать землянику. В лесу она подзывала меня и палкой показывала мне гриб, она их хорошо находила, хотя носила очки. Мама отрывала меня от моих поисков, и я притворялась, что сержусь на нее, но мне было весело подбегать и срывать для нее грибы.
В те годы мама часто ездила в командировки, потому что участвовала в создании алфавитов для бесписьменных народов. Она привозила мне подарки. Когда мне было три года, она привезла с Севера самоедскую (как тогда говорили) или эскимосскую (ненецкую) одежду из оленьего меха: коричневую шубку с круглым капюшоном, отделанную белым мехом, и такие же меховые сапожки. Из сапожек я быстро выросла, а шубку носила несколько лет. А с юга мама привозила пестрые тюбетейки, которые я носила летом.