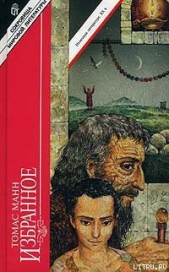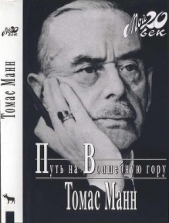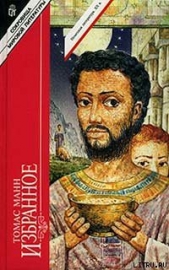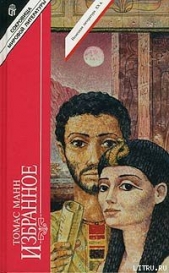На повороте
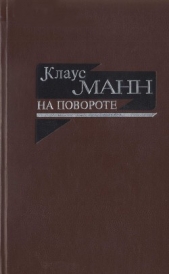
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
3 января 1941 года. Томский (Кертис) в военной форме! Несколько месяцев назад он записался в Национальную гвардию, и теперь он должен со своим полком отправиться в учебный лагерь куда-то на юг, в штат Джорджия. Тяжелые сапоги, куртка с золочеными пуговицами, толстая рубаха хаки — все выглядит на нем так нелепо. Мне больно видеть его в таком маскараде. Военное не идет ему, он испытывает отвращение к войне. Сколько у него было планов, в связи с «Дисижн» к примеру. Без его помощи журнала бы не было, и как раз теперь, за несколько дней до появления первого номера, он должен прибыть в Джорджию. Зачем? Чтобы учиться стрелять. Пристыжающая мысль: что это несчастье принесло миру Furor Teutonicus [286]! Поэтому мой друг Кертис, штатский американец, теперь в военной форме… Но этот обремененный виной народ, разве я не принадлежу к нему? Я чувствую себя совиновником. Я прошу у Томского прощения.
10 января. Первый номер журнала, кажется, нравится. Много лестных писем и рецензий; и подписка растет, что важнее. Но сам я отнюдь не совсем доволен, «Дисижн» не должен стать парадом блестящих имен. Не так много «Prominente» [287]! Побольше молодежи! Больше эксперимента!
26 января. Волшебник, Милейн и Э. в Вашингтоне в качестве гостей президента и его жены. Э. присылает мне письмо из Белого дома. Простейшая почтовая бумага скромного формата; вверху, маленькими золотыми буквами, отправитель: «The White House, Washington D. C.»
He могу отрицать, что этот клочок бумаги меня как-то впечатляет, завораживает. Весть из дома, где, может быть, именно сейчас, именно сегодня решается будущее нашей цивилизации. От Америки все зависит. Все зависит от Рузвельта.
2 февраля. С Э., Гумпертом, Лоттой Вальтер на премьере австрийского театра: «Ужасные родители» Кокто. Большое удовольствие увидеть наконец на сцене занимательно двойственный, хитро сконструированный очерк, правда лишь на немецком (Кокто едва ли поддается переводу), в этой часто скрупулезно наивной постановке и перед довольно призрачным партером. Как «большая премьера» в Вене или Берлине пятнадцать лет назад! Вон сидит Альфред Польгар со своей женой; там Курт Пинтус рядом с Манфредом Георгом, теперь, между прочим, редактирующим в Нью-Йорке очень хороший немецко-еврейский еженедельник, «Ауфбау». Курт Рисс тоже, естественно, здесь, а также Кестен, Фердинанд Брукнер, Франц Шенбернер, Оскар Мария Граф… Сколько добрых знакомых! Генрих Эдуард Якоб рассказывает мне через два ряда партера, что умер Антон Ку, уже несколько дней тому назад. Жутко, что его исчезновение, даже в этом замкнутом эмигрантском кругу, поначалу не было замечено. А ведь был как-никак почти знаменитым человеком!
Как бесшумно и беззвучно уходят ныне…
17 марта. Вчера несколько часов у Уистона (Одена); работали над «непринужденной беседой», которую мы должны вести друг с другом послезавтра на радио. Тема — «Роль писателя в политическом кризисе», — конечно, слишком многозначна, чтобы даже хоть приблизительно быть исчерпанной за четверть часа. Несмотря на это, может получиться интереснейший диалог, как раз благодаря противоположности наших точек зрения. Уистон — прежде (еще три-четыре года назад!) гораздо более решительный политический активист, чем когда-либо я, — теперь придерживается такого мнения, что писатель должен избегать всякого соприкосновения с политической сферой. Тот самый У. X. Оден, который мог в 1937 году написать прекрасное боевое стихотворение «Испания», в 1941 году выдает для радиослушателей следующее: «Оглядываясь на политическую активность литературного мира в последние годы, я не могу отделаться от ощущения, что мы, может быть, воздействовали бы сильнее, большего бы добились при большей сдержанности и умеренности. Ведь художник, даже если он только на полпути к успеху, занимает в современном, демократическом обществе исключительное положение, так как он пользуется гораздо большей свободой передвижения и действия, чем все прочие граждане; ни государство, ни какой-либо другой руководитель не могут приказывать ему. Однако именно эта независимость, эта социальная раскрепощенность и является, может быть, тем, что замутняет или искажает его политическое суждение; ибо „свободный художник“ никогда не испытывал проблему политической власти на собственной шкуре и, значит, никогда хорошенько не понимал ее. Так может быть объяснена слабость, которую показывает политизирующий художник при экстремальных положениях, его сомнительная склонность искать спасения либо в анархии, либо же у „хорошего диктатора“».
Оден будет уговаривать также нас никогда не считать окончательной, абсолютной истиной никакую политическую формулу, никакую социальную программу, на что я тогда все же замечу: «Конечно, любой фанатизм, любая „слепая вера“ вредна и опасна; но столь же большая опасность заключается в том парализующем скепсисе, перед которым становятся равно сомнительными, равно относительными все ценности. Разумеется, ни одна политическая догма не содержит „абсолютной истины“, однако отдельные догмы удалены от этого идеала еще дальше, чем другие, из чего для интеллектуала, „свободного писателя“ — тоже или именно для него, — все-таки, пожалуй, проистекает обязанность выбора».
Уистон со мной в этом соглашается, напоминаю, однако, под конец, что собственное решение художника и интеллектуала осуществляется не в политической сфере, но в моральной плоскости. «Прежде всего мы должны вновь обрести смысл для абсолютных этически-религиозных ценностей. Если нам не удается это, то нам нечего будет противопоставить тоталитаристскому притязанию власти государства».
8 апреля. Четвертый номер «Дисижн» почти удовлетворителен. Очень существенно, очень актуально сочинение толкового, прогрессивного Макса Лернера «Демократия для военного поколения» с его требованием точно сформулированных, умных и реализуемых демократических военных целей. Статья Мориса Самуэля, «Гибель разума», также кажется мне достойной внимания. Превосходно сказано о психологии и методах современной пропаганды, причем геббельсовскую он берет только как яркий пример. Всякая пропаганда, и доброжелательная тоже, стремится к оглуплению масс: «The real objective is, always and continuously, the depression of the human intelligence» [288].
Что касается моего собственного (несколько длинноватого) эссе об Уолте Уитмене, то могу лишь надеяться, что удалось всколыхнуть и передать читателю по меньшей мере часть чувства, которое волновало меня при написании. Очень хотелось мне узнать, понравился ли бы мой опыт Шервуду Андерсону, американскому писателю реального масштаба…
Смерть Андерсона — в путешествии, где-то далеко от дома, «this far-away death» [289] (как это звучало в прекрасном некрологе Мюриэла Рюкейсера) — опечалила меня больше, чем могло бы показаться разумным, принимая во внимание наше краткое знакомство. Но, может быть, именно это и опечалило меня, что я его так мало узнал, не искал сближения с ним, хотя он принял меня с таким дружелюбием.
Вспоминаю послеобеденный час в его довольно узкой, довольно темной комнате нью-йоркского отеля, при этом был Томский. Лицо Андерсона понравилось мне с первого взгляда; и чем дольше я на него глядел, тем милее оно мне становилось. Это было лицо с обширной спокойной поверхностью, уже несколько вялое, несколько отечное, но при том крепкое; хорошее, содержательное лицо. Лицо человека, который много пережил и многое понял: ему близко все человечество, целая шкала желаний и страстей: для мелочности, злобы, подлостей у него никогда не было времени.