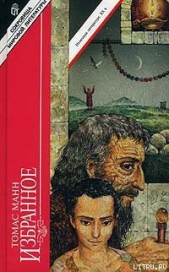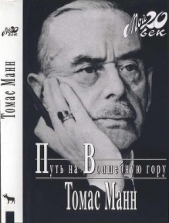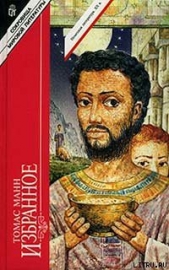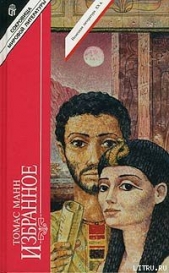На повороте
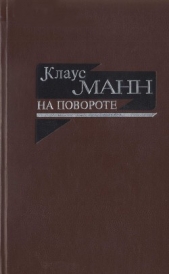
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
6 сентября. Эрика в Лондоне. Ее первая телеграмма звучит обнадеживающе, воодушевленно. Но весточке уже несколько дней, и, может быть, она устарела. В промышленных городах Мидленда [254] уже творится ад. Геринг посылает свои эскадрильи через Ла-Манш. А каждый миг на очереди может быть Лондон.
Э., конечно, не боится. Но я…
Сан-Франциско, 13 сентября. Я здесь, чтобы подольститься к некоторым богачам, которые могут дать деньги на журнал. А в голове ничего, кроме Лондона и адских бомбардировок! Пострадал Букингемский дворец. Не то чтобы я проявлял особое беспокойство за «His Majesty the King» [255]! Но, может быть, Э. живет в том же квартале…
Вчера в Кармеле. Очень красиво расположен на море, недалеко от Сан-Франциско. Краткий визит Биби, проводящему там лето с женой и ребенком. (В зимний сезон он будет занят здесь в симфоническом оркестре в качестве альтиста.) Ребенка зовут Фридолин, и ему всего несколько месяцев. Таким образом, есть, значит, племянник… Не без растроганности рассматриваю старообразное личико с большими ушами, как пенки нежными щеками. Невероятно крохотные руки и ноги, уже точно так же сложены, тщательно оформлены, шевелятся, как нервные цветы плоти. Что же суждено пережить ему! Бедный Фридолин! Бедный мир…
14 сентября. Сан-Франциско имеет свою прелесть; прекраснейший американский город, без сомнений; за исключением Нью-Йорка, который я люблю больше всего.
Ленч со старым Бендером. (Бодрый старец еврейско-ирландского происхождения — смесь, которая мне, насколько знаю, еще никогда не встречалась. Может быть, «ангел», пользуясь забавным американским выражением для «деньгодателя».)
С ним на «Острове сокровищ» на большой «Fair». (Как назвать это по-немецки? «Выставка»? «Ярмарка»? Ни один перевод не кажется полностью соответствующим…) Впечатление решительно импозантнее, чем от нью-йоркской Fair. Краски насыщеннее. Очень синее море. Гордый взлет колоссальных мостов.
Около двух часов на художественной выставке, с интенсивным наслаждением. Сильно тронут некоторыми итальянцами, «Мадонной» Филиппо Липпи, с золотым фоном, как из парчи, великолепные портреты Тинторетто; прелесть Тьеполо. (Однако гладкое, сладкое совершенство Рафаэля опять оставляет меня совершенно холодным.) Сильнее всего очарован ужасно-резвящимся, зловеще-сочным народным гуляньем Брюгеля и изумительным Кранахом: святой Иероним, с белочкой, птицами, кротко-покойными львами, с благоговейной точностью изображенный в своей просторной комнате ученого… Очень пленен Пуссеном: Мадонна с голубой драпировкой. (Атлетичность его фигур. Мистерия этой ясности, непостижимая глубина этой прозрачности…) Несколько маленьких вещей Рембрандта огромного содержания; скорбящая голова Давида захватывающе прекрасна. Равносильны эскизы Дюрера. В девятнадцатом столетии выставлены только французы, слабо, но прелестно представленные рисунками Дега, Родена, Домье, Сезанна, Ренуара и т. д. Увлекательная цирковая наездница с тявкающим пуделем Тулуз-Лотрека. Современные американцы почти сплошь слабы. Почти ничего нового, никакой оригинальной мысли, нет ничего, что могло бы стать вровень с современным американским романом (Хемингуэй, Фолкнер, Вулф). У европейских Contemporains [256] уйма интересного и прекрасного. Радость от Брока, Дюфи, Утрилло, Фламинка. Восхищение виртуозно написанным и очень тонко прочувствованным пейзажем Темзы Кокошки. Из современных немцев для меня несомненен еще только Бекман. (Клее, который продолжает быть популярным, не немец. А Хофер, Нольде, Дикс? «Ça n’existe pas» [257]. Даже если бы не было больше Либермана, утрата не была бы столь уж горькой…) Бекман, единственный, обладает подлинным пафосом, убедительным стилем, оригинальным видением. Искажение его садистской готики может отталкивать, вызывающая агрессивность палитра также часто неприятно задевает («il est très boche» [258]); но в каждой его картине говорит сильная, внутренне обеспокоенная, борющаяся личность. Отсюда убеждающая сила этого искусства, которое по своей целенаправленности, своей интенсивности, своему трагизму может сравниться, скажем, с искусством Руо. Но что представляет из себя такой горестно проблематичный и ограниченный талант, как Бекман или Руальт, рядом с демонически переменчивым, действительно универсальным творцом? Среди многих дарований есть только один гений: Пикассо.
В поезде (где-то в штате Невада), 16 сентября. Пикассо меня не отпускает. Его картина, околдовавшая меня в Сан-Франциско, — фигура спящего юноши — относится к одному из его полуклассицистических периодов. Строгая грация и точность контура заставляют думать об Энгре. Но разве у него или другого мастера найдешь такую одновременно невинно-веселую и лукавую игру розовато-размытых и пурпурно насыщенных красок? Нечто такое может только Пикассо, которому доступно все.
Воспоминания о его огромном, огромнейшем труде являются, когда я закрываю глаза. Магический калейдоскоп стремительно бурных красок, меняющихся фигур! Стеклянно-блеклая голубизна раннего периода с его любительницей абсента, хрупкими цирковыми детьми, нищими на берегу моря; возвышенная миловидность и классическое достоинство мальчика с лошадью, коричневого мальчика с серой лошадью на коричневом фоне, под серым небом; затем искажение, вторжение Африки: из просветленнейшего благородного лица появляется гримаса Конго. После кубистского эксперимента военной эпохи приходит новый расцвет: в идиллии балкона 1919 года растворяется спазм, краски снова сверкают, появляется гитара — символ, победный трофей: живопись снова проясняется. Надолго ли? Гигантские женские фигуры 1920 года с гипертрофированными руками, ногами и грудями, кажется, стоят в своей горестной массивности между преисподней и Олимпом. Однако уже вскоре достигается совершенная гармония; некоторые шедевры этого классического периода в их прелестной точности и сдержанном совершенстве свежи у меня в памяти: мать с ребенком, римская любовная пара, изумительно ясные, любовно точные портреты мадам Пикассо, серьезный Арлекин в черной шляпе. Но в таком покое, таком величавом хладнокровии уже таится новый риск. После прозрачной объективности еще раз гримасничание, еще раз абстракция. Динамика, не знающая устали, удовлетворения, может иногда празднично-неистово разрядиться в пожаре цвета. Королевски яркий петух, которым я восхищался в нью-йоркском Музее современного искусства, — это чистое горение, цветная жар-птица; а также увиденный со стороны ужасный лик в дико намалеванных «двойных профилях». Но ноздри и глаза здесь чудовищным образом раздвоены, кажутся самодовлеюще торжествующими красным, зеленым, синим, желтым и черным, подобно стихии, которой не обуздать. Но в композиции «Герника» пламя гаснет или как-то тускнеет до бледного накала. Никакого свечения больше! Апокалипсическая сцена бесцветна, безутешна, вся под властью жеста отчаяния павшего человека, вопля истерзанной твари. Плачущая лошадь в Пикассовой «Гернике» — со времен Грюнвальда такой муки не изображалось ни на одном полотне.
Несомненно, Пикассо не только величайший живописец эпохи, но и величайший художник. С ним не может сравниться ни один поэт или композитор. Его творческая потенция производит удивительное впечатление, даже тревожное, чуть ли не чудовищное в столетие скромных измерений и редуцированных сил. Перед лицом этого вновь и вновь саморазлагающегося, самопревосходящего мастерства, этой суверенно разыгрывающейся и одновременно трагически одержимой продуктивности нельзя не задать себе вопроса: как он это делает? Все-таки здесь что-то нечисто…
Снова и снова желание написать о Пикассо; эдакое большое эссе, может быть книгу. Но о нем уже так много написано. И так много вещей, о которых мне бы хотелось написать.