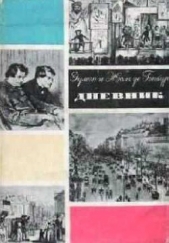Дневник. Том 1

Дневник. Том 1 читать книгу онлайн
Авторами "Дневников" являются братья Эдмон и Жюль Гонкур. Гонкур (Goncourt), братья Эдмон Луи Антуан (1822–1896) и Жюль Альфред Юо (1830–1870) — французские писатели, составившие один из самых замечательных творческих союзов в истории литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Их имя было присвоено Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев. Записки Гонкуров (Journal des Goncours, 1887–1896; рус. перевод 1964 под названием Дневник) — одна из самых знаменитых хроник литературной жизни, которую братья начали в 1851, а Эдмон продолжал вплоть до своей кончины (1896). "Дневник" братьев Гонкуров - явление примечательное. Уже давно он завоевал репутацию интереснейшего документального памятника эпохи и талантливого литературного произведения. Наполненный огромным историко-культурным материалом, "Дневник" Гонкуров вместе с тем не мемуары в обычном смысле. Это отнюдь не отстоявшиеся, обработанные воспоминания, лишь вложенные в условную дневниковую форму, а живые свидетельства современников об их эпохе, почти синхронная запись еще не успевших остыть, свежих впечатлений, жизненных наблюдений, встреч, разговоров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Баратария *.
И вот мы в помещении, где происходят свидания с арестант
ками. Представьте себе большую комнату, разделенную на три
части. У стены — отделение для арестантки; рядом, за стеклян
ной перегородкой, — стул для дежурной монахини и мотовило
с пряжей; за другой перегородкой — место для посетителей;
таким образом, между арестанткой и посетителем — постоянно
настороженные глаза и уши монахини, нечто вроде живой
решетки.
Затем переходим в столовую; на стене листок бумаги —
рацион, скамьи с ящиками, куда арестантки прячут свою жал
кую посуду, оловянные ложки и остатки еды. Пока мы видели
только нескольких женщин — одни подметали пол, другие что-то
стряпали.
Но вот открылась дверь, обитая широкими блестящими поло
сами железа, — нам показали в ней маленькое, совсем крошеч
ное отверстие — тюремный глазок; открылась дверь, и нашему
взору представилось нечто смутное, однообразное и залитое
неярким светом: ясность, прозрачность, холодная белесая си
нева, свет, падавший из окон, голубизна неба, белизна занаве
сей, желтизна стен отражались на синих, белых, серых платьях
сидевших ровными рядами совершенно одинаковых существ, и
от этого рождалась некая гармония смягченных тонов, которая
в сочетании с равномерным, рассеянным, словно матовым све
том напоминала колорит картин Шардена, холодное, спокойное
освещение его интерьеров.
На стене, прямо против сидящих женщин, над распятием —
белая надпись на синем фоне: «Бог видит меня» — словно боль
шой глаз, бдящий над ними. Налево, на чем-то вроде кафедры,
куда ведет несколько ступенек, покрытых серой дорожкой,
стоит монахиня, главная надзирательница работ, — своей позой,
неподвижными складками одежды, опущенными вдоль туло
вища руками она напоминает средневековые надгробные извая
ния святых жен. Входящие кланяются только ей одной, а затем
надевают шляпы. Странное это производит впечатление — среди
25
Э. и Ж. де Гонкур, т. 1
385
множества женских существ, находящихся в этой комнате,
женщиной признают только ее одну, почтение оказывают только
той, что носит монашеское платье, как будто тюремная одежда,
в которую облекло остальных преступление, случайный просту
пок или страсть, лишила этих женщин их пола.
Мы идем по узкому проходу между скамьями, ступая по по-
лотняной дорожке, расстеленной на чисто вымытом сосновом
полу. В одном углу работают вышивальщицы, в другом шьют
дамские сорочки, в третьем — всякое белье. На самых дальних
скамьях, откуда раздается оглушительный шум, работают на
швейных машинках.
Все арестантки одеты одинаково: на голове мадрасовый пла
ток в белую и синюю полоску, на плечах такая же косынка,
халаты грубого серого полотна, белый передник. Из-под рукавов
выглядывают черные шерстяные нарукавники, на плече у каж
дой ее номер, вышитый красными нитками; на ногах большие
деревянные башмаки. У мастериц, которые раздают работу,
платки и косынки лиловые, у служительниц — красные. На
стене за спиной у монахини — большая таблица: три колонки
с именами арестанток, над каждой из колонок обозначен вид
работы: «Вышивка по канве», «Домашнее шитье», «Вышивка
гладью».
А там, за окнами, плывет воздух, смеется небо. Там деревья,
там воля, там простор.
Мы проходим мимо арестанток; каждая кажется погружен
ной в свою работу, некоторые низко склонились над нею. Лица
непроницаемы. Эти женщины словно отгорожены от нас стеной.
Бесстрастные, замкнутые, сосредоточенные, но что-то подска
зывает, что это только маска. Большинство выглядят здоро
выми, у них пухлые физиономии, неплохой цвет лица, разве
только чуть-чуть желтоватый, — это здоровье затворниц; некото
рые излишне полны. Не то монахини, не то выздоравливающие
в какой-нибудь больнице. У них упрямые лбы, за которыми уга
дываешь ожесточенность простолюдинок, мужицкую озлоблен
ность. Но все это как бы подавлено, усмирено отупляющей, ни
велирующей совместной жизнью. Ни одного своеобразного или
привлекательного лица. Низменная, угрюмая, простонародная
масса. Грубые физиономии, невыразительные глаза. Но чувст
вуется, что женщины замкнулись в себе. Что-то в них притаи
лось. Под этими непроницаемыми чертами — кровоточащие
раны еще живых, жгучих страстей. И если вдруг обернешься,
увидишь, как медленно поднимаются глаза и смотрят тебе вслед.
В спину тебе впиваются сотни любопытных женских взглядов.
386
И глаза уже не опускаются — они провожают тебя до самой
двери. Почти у всех красивые, холеные руки.
Самое страшное в этих помещениях, в этой тюрьме, во всем,
что я видел здесь, — это пытка, изобретенная нынешней пени
тенциарной системой, пытка филантропическая и моральная,
далеко превосходящая по своей жестокости пытку физическую;
только она не вызывает ни протестов, ни возмущения, она ни
кого не волнует, потому что наказуемых никто и пальцем не
тронет, потому что здесь нет ни крови, ни криков боли, потому
что пытка эта бескровная: она не калечит тело, а только ковер
кает душу, убивает разум. «Правда, некоторые сходят с ума, и
таких каждый год бывает немало», — с улыбкой сказал мне
супрефект. Эта пытка — молчание! *
Чудовищно! Правосудие не имеет права прибегать к таким
мерам. Пусть убивает убийцу, пусть отдает преступника в руки
палача; но лучше уж вырвать у человека язык, чем запретить
ему говорить! Заткнуть ему рот кляпом молчания — это все
равно что отнять у него воздух, свет. Представить себе только:
тысяча двести живых женщин, существующих бок о бок друг
с другом — и замурованных в молчание! Только пресловутый
Прогресс мог до этого додуматься. В действиях правосудия есть
равнодушная жестокость, в которой оно превосходит де Сада.
Взять хотя бы эту пытку.
Начальник тюрьмы, сменивший к тому времени инспектора,
нервический, желчный субъект с головой щелкунчика, продол
жал знакомить меня с тем, как хорошо содержатся помещения,
как хорошо поставлено дело, обращая мое внимание на прекрас
ные вышивки, выполненные арестантками (и правда — чудес
ные!), показывал их спальни, их узкие тюфячки на деревянных
козлах, грубые серые одеяла, застиранные простыни, белый
ночной чепец и коричневый урыльник, засунутый прямо под
матрац вместе со щеточкой, которой его моют. Между крова
тями всю ночь ходят монахини, это не считая других дежурных.
Открывая камеру, где происходят субботние судилища, на
чальник тюрьмы объясняет, что по отношению к арестанткам
нужны серьезные меры предосторожности. По его мнению, мол
чание превосходный способ укреплять нравственность: «Если
дать им говорить друг с другом, они вконец развратятся, ведь
и так на какие только хитрости они не пускаются, вплоть до
того, что одна, например, додумалась разрезать казенными нож
ницами на отдельные буквы «Отче наш» и «Деву Марию» из
своего молитвенника и сшить из этих букв письмо соседке са
мого непристойного содержания...» При этих словах я вспомнил,
25*
387
что есть ведь еще и эта — страшная! — сторона. Я подумал о
всяких противоестественных склонностях, неизбежно зарож
дающихся и расцветающих в подобных условиях; о необуздан
ной страсти, о вспышках ревности, из-за которых ночью жен
щины встают, бросаются на спящую рядом сотоварку и жестоко
избивают ее своими урыльниками — единственным доступным
здесь оружием. О лесбийской любви, этой неизменной спутнице
женских общежитий, да еще в условиях тюрьмы, о неистовой
чувственности каторжников, — целый день томит их единствен