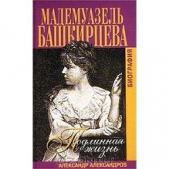Дневник Марии Башкирцевой

Дневник Марии Башкирцевой читать книгу онлайн
Мария Башкирцева (1860–1884) — художница и писательница. Ее картины выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, в некоторых крупных украинских музеях, а также в музеях Парижа, Ниццы и Амстердама. «Дневник», который вела Мария Башкирцева на французском языке, впервые увидел свет через три года после ее смерти, в 1887 г., сначала в Париже, а затем на родине; вскоре он был переведен почти на все европейские языки и везде встречен с большим интересом и сочувствием.
Этот уникальный по драматизму человеческий документ раскрывает сложную душу гениально одаренного юного существа, обреченного на раннюю гибель. Несмотря на неполные 24 года жизни, Башкирцева оставила после себя сотни рисунков, картин, акварелей, скульптур.
Издание 1900 года, приведено к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но я знаю наверно, что Биарриц прелестен…
Море весь день было восхитительного цвета. Такие тонкие серые тона!
Мадрид. Воскресенье, 2 октября. Когда выйдешь из этого ужасного кровавого места, все кажется сном. Бой быков! Отвратительная бойня лошадей и быков, где люди, по-видимому, не подвергаются никакой опасности и где они играют низкую роль. Единственными интересными моментами для меня было падение людей; один из них был затоптан быком — это настоящее чудо, что он спасся. За это ему сделали овацию. Публика кидает сигары, шляпы, и их очень ловко бросают обратно; махание платками и дикие крики со всех сторон.
Это жестокая игра, но доставляет ли она удовольствие? Вот в чем вопрос. Нет, она не увлекательна, не интересна, это ужасно и низко. В обезумевшее животное, раздраженное многоцветными плащами, всаживают что-то вроде копий; кровь течет, и чем больше животное движется, чем больше оно прыгает, тем сильнее его ранят. Ему подводят несчастных лошадей с завязанными глазами, которым он распарывает живот. Кишки вываливаются, но лошадь все-таки поднимается и повинуется до последней крайности человеку, который часто падает вместе с нею, но почти всегда остается невредимым.
Король, королева, инфанты присутствуют на бое быков; всех зрителей более 14 000. Это происходит каждое воскресенье. Нужно видеть главу всех этих мрачных глупцов, чтобы поверить, что можно пристраститься к таким ужасам. Если бы это были еще настоящие ужасы! Но эти безобидные клячи и эти быки, которые приходят в ярость только тогда, когда их раздразнят, раненые, истязаемые…
Королева, которая родом из Австрии, верно не находит в этом удовольствия. Король имеет вид англичанина из Парижа. Мила только младшая инфанта. Королева Изабелла сказала мне, что я на нее похожа; я этим польщена, так как она в самом деле мила.
Мы выехали из Биаррица в четверг утром и вечером приехали в Бургос. Пиренеи поразили меня своею величественной красотой; слава Богу, мы выбрались из картонных утесов Биаррица.
Если вы думаете, что путешествие с моими матерями может быть приятным, то вы сильно ошибаетесь. Впрочем, это понятно: они не имеют ни моей молодости, ни моей любознательности. Так как это дело прошлое, я не стану говорить о том, как они меня раздражали, тем более, что еще тысячу раз буду иметь случай говорить об этом.
Со вчерашнего утра мы в Мадриде. Сегодня утром мы были в музее. В сравнении с ним Лувр очень бледен: Рубенс, Филипп Шампанский, даже Ван-Дик и итальянцы здесь лучше. Ничего нельзя сравнить с Веласкезом, но я еще слишком поражена, чтобы высказывать свое суждение. А Рибера? Господи Боже! Да, вот они настоящие натуралисты! Можно ли видеть что-нибудь более правдивое, более божественно и истинно правдивое! Как волнуешься и чувствуешь себя несчастным при виде таких вещей! О, как хочется обладать гением!
Краска! Чувствовать краску и не передать ее, это невозможно.
Завтра я пойду в музей одна. Трудно поверить, как оскорбительно действует глупое рассуждение перед великими произведениями. Это режет, как ножом, и если сердиться, это принимает слишком глупый вид. У меня есть, кроме того, известного рода застенчивость, которую трудно объяснить: я не хотела бы, чтобы видели, как я чем-нибудь любуюсь, я боюсь быть пойманной на выражении искреннего впечатления; я не умею здесь объясниться.
Мне кажется, что можно серьезно говорить о чем-нибудь, глубоко трогающем вас, только с тем, с кем вы имеете полное духовное общение. Я могу по-человечески говорить с Жулианом: но с ним у меня является всегда черта преувеличения, чтобы энтузиазм имел комическую сторону и чтобы можно было найти убежище в иронии, как бы оно ни было легко. Но получить глубокое впечатление и высказать его просто и серьезно, как чувствуешь… Я не представляю себе, что могла бы это сделать, с кем-нибудь, кроме человека, которого любила бы всею душой… Если бы я могла это сделать по отношению к человеку, к которому я равнодушна, это тотчас создало бы невидимую связь, которая потом была бы стеснительной: точно вместе совершили дурное дело.
Или уж нужно делиться мыслями по-парижски, делая вид, что на все смотришь с точки зрения своей специальности, чтобы не казаться слишком поэтичной и говорить о художестве словами, сделавшимися уже банальными.
Вторник, 4 октября. Докончу описание вчерашнего дня. Итак, из Buon Retiro мы идем в кафе слушать пение и смотреть на пляску испанских гитан.
Это место совершенно своеобразное. Мужчина бренчит на гитаре, и дюжина женщин хлопает в такт в ладоши; вдруг одна из них начинает издавать ноты в хроматическом беспорядке; это невозможно передать. Это нечто совсем арабское и уже через час надоедает.
Четверг, 6 октября. Я скопировала руку Веласкеза. Я была одета скромно, в черном и в мантилье, как все здешние женщины, но на меня многие приходили смотреть, особенно один господин. Кажется, в Мадриде; они еще хуже, чем в Италии: прогулки под окнами, — гитары; за вами ходят всюду и разговаривают, и так без конца. В церквах обмениваются записками, и у молодых девушек по пяти или шести воздыхателей: с женщинами замечательно вежливы, но эта вежливость не заключает в себе ничего оскорбительного, так как здесь не существует полусвета, как во Франции: такие женщины презираются; но на улице вам скажут, что вы красивы, что вас обожают, просят позволения проводить, как даму, и все это вполне прилично. Мужчины бросают вам под ноги плащи, чтобы вы прошли по ним. Что касается до меня, то я нахожу это прелестным; когда я выхожу одетая очень просто, но изящно, на меня смотрят, останавливаются, и я точно возрождаюсь; это какая-то новая жизнь, романическая, с оттенком средневекового рыцарства…
Воскресенье, 9 октября. Мама уехала в Россию, и присутствие посторонних при расставании избавило нас от пролития лишних слез. Мне было грустно с утра, но ей нужно было ехать: отец вызывает ее по делам.
Вечер проходит в разговоре об искусстве со знакомыми, и теперь я одна рисую мрачные картины: что если мама умрет и больше не увидит нас!..
И она умерла бы, думая, что я ее не люблю, что мне это все равно, что я утешусь и, может быть, даже довольна!
Я готова ко всяким несчастьям, но не могу себе представить, что сделалось бы со мною, если бы это случилось… Я предпочитаю все на свете, — сделаться слепою, быть разбитой параличом… Меня можно было бы пожалеть, но потерять маму при таких условиях! Мне казалось бы, что я ее убила.
Понедельник, 10 октября. Когда я работала в музее, пришли двое пожилых людей; они спросили, я ли m-lle Башкирцева. — Без сомнения; тогда они поспешили ко мне. Один из них — Г. Солдатенков — московский миллионер, который много путешествует и обожает искусство и художников. Потом мне сказали, что Мадрацо, сын директора музея и сам художник, очень любовался моей копией и хочет со мной познакомиться. Старик Солдатенков спросил меня, продаю ли я свои картины, и я имела глупость сказать, что нет.
Что же касается живописи, то я научаюсь многому; я вижу то, чего не видела прежде. Глаза мои открываются, я приподнимаюсь на цыпочки и едва дышу, боясь, что очарование разрушится. Это настоящее очарование; кажется, что, наконец, можешь уловить свои мечтания, думаешь, что знаешь, что нужно делать, все способности направлены к одной цели, — к живописи, не к ремесленной живописи, а к такой, которая вполне передавала бы настоящее, живое тело; если добиться этого и быть истинным артистом, можно сделать чудесные вещи. Потому что все, все — в исполнении. Что такое «Кузница Вулкана» или «Пряхи» Веласкеза? Отнимите у этих картин это чудное исполнение, и останется просто мужская фигура, ничего больше. Я знаю, что возмущу многих: прежде всего, глупцов, которые так много кричат о чувстве… Ведь чувство в живописи сводится к краскам, к поэзии исполнения, к очарованию кисти. Трудно отдать себе отчет, до какой степени это верно! Любите ли вы живопись наивную, жидкую, прилизанную? Это любопытно и интересно, но любить этого нельзя. Любите ли вы чудных Дев на картинах Рафаэля? Я могу прослыть за невежду, но скажу вам, что это меня не трогает… В них есть чувство и благородство, перед которым я преклоняюсь, но которого я не могу любить. «Афинская школа» того же Рафаэля, конечно, великолепна и ни с чем не сравнима, как и другие его произведения, особенно в гравюрах и фотографиях. Тут есть чувство, мысль, дыхание истинного гения. Заметьте, что я также враг низменных телес Рубенса и прекрасных, но глупых тел Тициана. Нужно соединение духа и тела. Нужно, подобно Веласкезу, творить, как поэт, и думать, как умный человек.