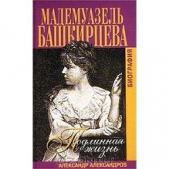Дневник Марии Башкирцевой

Дневник Марии Башкирцевой читать книгу онлайн
Мария Башкирцева (1860–1884) — художница и писательница. Ее картины выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, в некоторых крупных украинских музеях, а также в музеях Парижа, Ниццы и Амстердама. «Дневник», который вела Мария Башкирцева на французском языке, впервые увидел свет через три года после ее смерти, в 1887 г., сначала в Париже, а затем на родине; вскоре он был переведен почти на все европейские языки и везде встречен с большим интересом и сочувствием.
Этот уникальный по драматизму человеческий документ раскрывает сложную душу гениально одаренного юного существа, обреченного на раннюю гибель. Несмотря на неполные 24 года жизни, Башкирцева оставила после себя сотни рисунков, картин, акварелей, скульптур.
Издание 1900 года, приведено к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта девушка — сила; я согласна, что она не одна, но мы вышли из одной клетки, если не из одного гнезда, я ее угадала и предчувствовала и говорила о ней с первых же дней, хотя была тогда невежественна, даже очень невежественна. Я себя презираю, я себя отрицаю, я не понимаю, как Жулиан и Тони могут говорить то, что они говорят. Я ничто. По сравнению с Бреслау я кажусь себе маленькой непрочной картонной коробочкой рядом с дубовой шкатулкой, массивной и покрытой резьбою. Я отчаиваюсь в самой себе и так убеждена что права, что наверно убедила бы и учителей, если бы стала говорить с ними об этом.
Но я все-таки хочу идти, с закрытыми глазами и протянутыми вперед руками, как человек, которого готовится поглотить бездна.
Четверг, 29 декабря. Я снова оперяюсь: руки, худые еще десять дней назад, полнеют, и это доказывает, что мне лучше, чем перед болезнью.
Я пишу портрет жены Поля; вчера я чувствовала такое восстановление сил, что хотела сразу написать Дину Нину и Ирму. Ирма не совсем обыкновенная модель: это, как говорят, уже исчезнувший тип гризетки, она забавна и сентиментальна и все это при наивном цинизме. «Когда вы сделаетесь кокоткой…» сказала я ей как-то. «О! — отвечала она — это мне не удается»! Она позирует умно; с ней можно сделать все, что угодно, при ее удивительной бледности, так как она настолько же кроткая девушка, насколько полна разврата.
Она просила позволения остаться, хотя и не была нужна, и весь день вязала у камина.
Пятница, 30 декабря. Весь день все то и дело ссорятся…
Я еду, чтобы опомниться, к Тони и показываю ему эскиз портрета жены Поля. Он находит его очень оригинальным, очень оригинальным и хорошо начатым. Милый Тони был очень рад видеть меня здоровой.
1882
Понедельник, 2 января. Я начинаю чувствовать настоящую страсть к моей живописи; не считаю еще себя вправе сказать «мое искусство»; чтобы говорить об искусстве (о своих стремлениях в этой области), нужно что-нибудь из себя представить.
Среда, 4 января. Жулиан целый вечер забавлялся насмешками над нашим увлечением Тони и его маленьким пристрастием к нам. В полночь мы пьем шоколад. Д. была очень грациозна… впрочем я понимаю, что можно приберегать свои прелести для знатоков.
Я всегда одеваюсь с особенным тщанием для художников и притом — совсем особенно: длинные платья, без корсета, драпировки; в свете мою талию нашли бы недостаточно тонкою, а мои платья недостаточно модными; но все мои наиболее красивые измышления, слишком экстравагантные для света, пригодятся мне для министерства изящных искусств… Я все мечтаю составить себе салон знаменитых людей…
Пятница, 6 января. Искусство возвышает душу даже самых скромных из своих служителей, так что всякий из них имеет в себе нечто особенное сравнительно с людьми, не принадлежащими к этому возвышенному братству.
Воскресенье, 15 января. Я всецело предалась искусству; мне кажется, что я вместе с плевритом приобрела где-нибудь в Испании и священный огонь. Я начинаю обращаться из ремесленника в художника; в голове моей создаются чудные образы, которые сводят меня с ума… Вечером я сочиняю; теперь передо мной носится образ Офелии… Потен обещал показать мне сумасшедших; кроме того, меня сильно занимает старый араб, который сидит и поет с чем-то вроде гитары, а для будущего салона я обдумываю большую картину — сцену из Карнавала… но для этого нужно ехать в Ниццу. Да, взять Неаполь для моего Карнавала будет хорошо; чтобы написать эту картину на открытом воздухе в Ницце, у меня есть вилла и… Я говорю все это, а мне хочется остаться здесь.
Суббота, 21 января. M-me С. заехала за нами, чтобы вместе отправиться к Бастьен-Лепажу. Мы встретили там двух или трех американок и увидели маленького Бастьен-Лепажа, который очень мал ростом, белокур, причесан по-бретонски. У него вздернутый нос и юношеская бородка. Вид его обманул мои ожидания. Я страшно высоко ставлю его живопись, а между тем на него нельзя смотреть, как на учителя. С ним хочется обращаться, как с товарищем, но картины его стоят тут же и наполняют зрителя изумлением, страхом и завистью. Их четыре или пять; все они в натуральную величину и написаны на открытом воздухе. Это чудные вещи. На одной из них изображена восьми или десятилетняя девочка, пасущая коров в поле; обнаженное дерево и корова вдали полны поэзии, глаза малютки выражают детскую, наивную задумчивость, — по-видимому, он очень доволен собою, этот Бастьен!
Пятница, 27 января. Гамбетта уже не министр, но по-моему, это ничего. Но обратите внимание во всем этом на низость и недобросовестность людей! Те, которые преследуют Гамбетту, сами не верят этим глупым обвинениям в стремлении к диктатуре. Я всегда буду возмущаться низостями, которые совершаются ежедневно.
Понедельник, 30 января. В субботу я хорошо провела день. У нас был Бастьен, которого я встретила накануне на балу в пользу бретонских спасательных лодок; он остался более часу; я показала ему свои работы, и он давал мне советы с лестною для меня серьезностью. Впрочем, он сказал мне, что у меня замечательное дарование. Это не было сказано тоном, допускающим подозрение в снисходительности; и я почувствовала такую сильную радость, что готова была обнять маленького человечка и расцеловать его.
Все равно я рада, что слышала это. Он советовал и говорил мне то же самое, что говорят Тони и Жулиан. Впрочем, разве он не ученик Кабанеля? У всякого свой темперамент, но что касается так называемой грамматики искусства, то ей следует учиться у классиков. Ни Бастьен, и никто другой не могут научить своим отличительным свойствам; выучиваются только тому, чему можно научиться; все остальное зависит от самого себя.
Понедельник, 13 февраля. Если бы я могла продолжать работать, как в эти дни, я была бы счастлива! Дело не в том, чтобы работать как машина; но быть занятым все время и думать о том, что делаешь, — это счастье. Против этого не устоит никакое другое занятие. И я, которая так часто жалуется, я благодарю Бога за эти три дня, и в то же время дрожу, что это не будет так продолжаться.
Тогда все получает другой вид, мелочи жизни уже не тревожат поднимаешься выше этого и все существо проникается каким-то светом: божественным снисхождением к толпе, которая не понимает тайных, переменчивых, разнообразных причин вашего блаженства, которое более непрочно, чем самый недолговечный цветок.
Вторник, 14 февраля. Какие восхитительные наблюдения можем делать мы, читавшие Бальзака и читающие Зола!
Среда, 15 февраля. Глаза открываются мало-помалу, прежде я видела только рисунок и сюжеты для картин, теперь… О! Теперь! Если бы я писала так, как я вижу; у меня был бы талант. Я вижу пейзаж, я вижу и люблю пейзаж, воду, воздух, краски, — краски!
Понедельник, 27 февраля. После тысячи мучений я прорвала полотно. Мальчишки плохо позировали; объясняя мои неудачи моею неспособностью, я все начинала сызнова, и наконец… это отлично. Эти ужасные мальчишки двигались, смеялись, кричали, дрались… Я просто делаю этюд, чтобы не мучиться больше с картиной; все, что я предпринимала, выходило или банально, или неуклюже, или претенциозно, хотя сначала очень нравилось мне… Впрочем, лучше делать простые этюды; я переживаю такой критический момент, и так много времени потеряно.
Суббота, 20 мая. Процесс был большим несчастьем, но это кончено. Значит, нападают на другое, на меня… И когда я спокойно сижу одна в моей комнате, среди моих книг, после восьми или десятичасовой работы, я думаю о том, что могут рассказывать обо мне; что меня нравственно вырывают из этой могильной среды, раздевают, обезображивают, сплетничают обо мне; что мне приписывают такие мысли, такие поступки… Говорят, что мне двадцать пять лет и обвиняют меня в такой оскорбительной независимости, какой у меня никогда не было. От всего этого опускаются руки и хочется плакать.