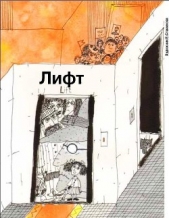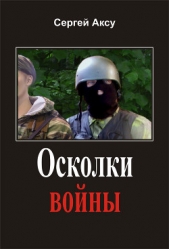Мои осколки

Мои осколки читать книгу онлайн
Отделение находилось на пятом этаже, почти на небесах, и я, отдав толстой коротконогой медсестре свои вещи и сунув ноги в огромные, разного цвета и размера шлепанцы — на одном было написано: «отд. 18», на другом: «отд. 44» — стал подниматься за ней по влажной, только что, видимо, вымытой лестнице. Лифт не работал.
Коротконогая толстуха несколько раз нетерпеливо надавила на кнопку вызова, но потом, когда лифт все-таки не прибыл, смачно выругалась и, устало переваливаясь с ноги на ногу, брезгливо сжимая в руках мою одежду, покарабкалась по лестнице наверх.
Я подумал, что ругательства предназначались мне, а вовсе не лифту. Я был наряжен в полосатую пижаму, словно узник концентрационного лагеря или приговоренный к казни на электрическом стуле разбойник. Влажная лестница блестела. Ноги разъезжались, словно на льду, шлепанцы из холодного дерматина то и дело слетали.
На площадке между первым и вторым этажами я обернулся. Мать стояла внизу и жалобно смотрела мне вслед. Глаза у нее блестели. Я улыбнулся ей, а она, улыбнувшись в ответ, махнула мне рукой, а потом быстро поднесла ее к лицу, к часто заморгавшим, блестевшим, как только что вымытая лестница, глазам. Я расплакался и снова поплелся за медсестрой...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юрий Котлов
Мои осколки
Отделение находилось на пятом этаже, почти на небесах, и я, отдав толстой коротконогой медсестре свои вещи и сунув ноги в огромные, разного цвета и размера шлепанцы — на одном было написано: «отд. 18», на другом: «отд. 44» — стал подниматься за ней по влажной, только что, видимо, вымытой лестнице. Лифт не работал.
Коротконогая толстуха несколько раз нетерпеливо надавила на кнопку вызова, но потом, когда лифт все-таки не прибыл, смачно выругалась и, устало переваливаясь с ноги на ногу, брезгливо сжимая в руках мою одежду, покарабкалась по лестнице наверх.
Я подумал, что ругательства предназначались мне, а вовсе не лифту. Я был наряжен в полосатую пижаму, словно узник концентрационного лагеря или приговоренный к казни на электрическом стуле разбойник. Влажная лестница блестела. Ноги разъезжались, словно на льду, шлепанцы из холодного дерматина то и дело слетали.
На площадке между первым и вторым этажами я обернулся. Мать стояла внизу и жалобно смотрела мне вслед. Глаза у нее блестели. Я улыбнулся ей, а она, улыбнувшись в ответ, махнула мне рукой, а потом быстро поднесла ее к лицу, к часто заморгавшим, блестевшим, как только что вымытая лестница, глазам. Я расплакался и снова поплелся за медсестрой.
Сквозь лестничные окна я видел, как мать вышла из приемного отделения и пешком, сюда нас привезла «скорая» из детской поликлиники, очень медленно, пошла по ледяной дорожке на остановку. Кругом стояли голые деревья. Потом она оглянулась, и я помахал ей рукой. Она меня не увидела, окна были очень маленькие, в решетках.
Слезы продолжали катиться по моим щекам, от жалости к себе, к матери. Я плакал тихо, часто моргая и кривя губы, стараясь не всхлипнуть, — толстуха на меня не оборачивалась, упрямо и равнодушно ползла ввысь, на пятый этаж, в отделение гематологии, прямо к Господу Богу, куда меня направили после обследования в детской поликлинике. Мне было тогда 12 лет, я заболел. Заболел быстро и странно. У меня кровоточили десны, шатались зубы, ноги покрылись сыпью, а при каждом прикосновении на теле появлялся здоровенный синяк, — последнее почему-то меня не столько испугало, сколько заинтересовало, и я успел этим похвастаться в школе. Задирал рукав и показывал, как от несильного тычка пальцем на коже появляется темно-синее пятно. Зубы у меня шатались здорово, словно штакетины в гнилом, разваливающемся от старости заборе, первое время есть нормально не мог — факт, парочку коренных выплюнул в школьной столовой в тарелку с резиновыми макаронами, а Килька, мой ехидный одноклассник, пророчески воздев руки к небу, на всю столовку провозгласил: «Сдохнешь ты скоро, Котел! Царство тебе небесное!» И до того радостное выражение при этом было написано на его веснушчатой физиономии, что мне жутко сделалось. Умирать мне не хотелось.
Дело было в начале зимы 1982 года, и мне, не находившему в учебе особого удовольствия шестикласснику, болезнь пришлась даже по вкусу, несмотря на мрачный оттенок, оставленный словами Кильки. Перспектива провести какое-то время в больнице меня, честно говоря, сначала обрадовала, но потом, когда я сунул ноги в эти холодные, как могильная земля, шлепанцы, разного размера и из разных отделений, когда я поплелся наверх за толстой медсестрой, а плачущая мать осталась внизу, мне по-настоящему сделалось тоскливо. Уж все-таки лучше сидеть на уроках, скучать, получать свои тройки и украдкой плевать из трубочки жеваной бумагой в портрет Тургенева под потолком, чем скользить по влажной лестнице в полосатой пижаме, нервничая от предстоящей встречи со Всевышним. Так я подумал тогда.
На пятом этаже мы долго шли по длинному и пустынному коридору, пока не уткнулись в дверь с надписью: «Отделение гематологии». Все, пришли, понял я.
Толстуха протиснула свой зад в дверной проем, распахнув одну из дверей, ту, на которой была табличка. Я прошмыгнул следом и тут же в ноздри мне ударил отталкивающий запах, — каждое учреждение имеет свой собственный запах, школа, столярный цех или там насосная станция. Стерильный запах больницы я чувствовал, когда еще поднимался по лестнице, но здесь, за этими, возможно, последними в моей жизни дверями, пахло, как мне показалось, особенно неприятно — едкий запах хлорки, горьких лекарств и кипяченых шприцев смешивался с кладбищенским запахом свежеокрашенной ограды и церковным запахом дымящегося ладана. Позже я нашел этому простое объяснение: стены в ординаторской были только что окрашены в голубой цвет, потому и воняло краской, а табачный дым, напоминающий благовоние ладана, исходил из мужского, прокуренного насквозь туалета. Позже, да. Но, очутившись на пороге этого отделения впервые, я интуитивно почувствовал характерный запах смерти, имевший мало общего с безобидным запахом районной детской поликлиники. Это был страшный и удушливый смрад грудных клеток, небрежно вскрытых в городском морге, тлетворная вонь зарытых неглубоко в землю мертвецов, смоляной дух новеньких гробов, приторный аромат формалина. И я, идущий на казнь мальчик. У стены стояли две каталки, на каких обычно перевозят тяжелобольных.
Я опасливо покосился на эти каталки, вытирая полосатым рукавом слезы. Привкус крови во рту усилился. Кончиком языка я потрогал один из верхних зубов — он еле держался, но пока еще был на месте.
Наконец толстуха обернулась, улыбнулась мне криво и дружелюбно. Как змея.
— Принимай, Тонь!
Толстуха бесцеремонно бросила на стол мои вещи и поковыляла обратно. Я остался. За столом сидела и раскладывала в пластиковые стаканчики таблетки молодая девушка, тоже в белом халате и высоком колпаке.
— Вот дура! — тихо сказала девушка, и я догадался, кому предназначались эти слова. У девушки были зеленые глаза, над верхней губой родинка. — И как ее здесь держат! Садись на стул. Ты что, плакал? Как тебя зовут? Юра? Юрок, плакать нельзя. Ты же мужчина. Сейчас определим тебя в палату.
Непонятно, в какую палату она собиралась меня определить. Несколько человек лежали в коридоре, на кушетках, под которыми в сумках лежали вещи и стояли баночки для мочи.
Мужики, взрослые, лежали в коридоре на этих кушетках. Молча смотрели на меня, ребенка. В детской больнице отделения гематологии не было, потому меня привезли сюда, к взрослым, но скоро я заметил, как из одной палаты вышел мальчик, примерно моего возраста. С любопытством посмотрев на меня, он пошлепал куда-то по коридору. Под мышкой у него была зажата шахматная доска.
— Посиди, я сейчас…
Медсестра Тоня отправилась по палатам искать мне койку. Не нашла. Палаты были женские и мужские. Девочки лежали с женщинами в женских, мальчики с мужиками в мужских. Какой-то отдельной детской палаты не было. В мужских свободных коек не было. Кушетки в коридоре тоже заняты. Меня определили в женскую палату.
— Устраивайся, Юрок, — дружелюбно сказала Тоня. — Пока здесь побудешь, потом переведем.
Я молчал. Не знал, что ответить.
Сунул пакет с вещами под подушку и лег на кровать. Слезы продолжали катиться по щекам, и чтобы никто их не видел, отвернулся к стене.
Больниц я не боялся. За свою короткую двенадцатилетнюю жизнь успел побывать в них три раза.
В первом классе, вернее, когда я закончил его, на каникулах, меня сбил мотоцикл. Был первый день каникул, солнечный летний день, и я, счастливый, торопился поскорее выбраться из рейсового автобуса. Мать, бабушка и я приехали в деревню Владимировка. Она за городом в десяти километрах, раньше здесь жили и мы, мать, живой еще отец, сестра моя, бабушка, я. Жили в мрачном бараке, потом родители получили в городе квартиру. Сейчас здесь жил с семьей мой дядя, мамин брат. Жили они не в бараке, своем домике, маленьком, держали свиней, овец, кур. Была собака, Мухтар, и был сад с яблонями и вишнями, малинник был, черемуха, березка перед домом, а за деревней речка. У дяди и его супруги было четверо детей, две дочери, два сына, все старше меня намного, но были мы очень дружны, и особенно дружил я с самым старшим Колей, у него был велосипед, и он катал меня на скрипучем багажнике, сзади. И камера у него была огромная от трактора, летом он накачивал ее насосом, и на ней можно было плавать, как на лодке. И удочки у него были, и с собой он брал меня всюду, и на рыбалку, и горох с колхозного поля воровать, и был он очень добрым, безотказным, и я никак не мог понять, почему все считают его неполноценным, глупеньким. Когда ему было лет пять, девочки постарше накормили его беленой. Он едва не умер, но с тех пор стал, как все говорили, не в себе. Из школы-интерната, куда его отдали, он сбегал, и когда родителям это надоело, они махнули на него рукой. Читать и писать он так и не выучился, не умел считать деньги, но зато практически все хозяйство лежало на нем — свиней кормить, сено заготавливать, овец в стадо выгонять, картошку окучивать, огурцы поливать, воду из колодца таскать, да мало ли в деревне дел?