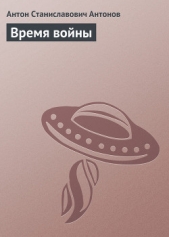Выстрелы в темноте

Выстрелы в темноте читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Незамедлительно? Дизельную? А частушку он тебе при этом не исполнил: «Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле…»?
– «Он козел и я козел, – подхватил уже направившийся было прочь Ордынский. – У нас дизель сп…и!»
Через минуту-другую, в первый лишь раз катя в дребезжащем самосвале по разъезженному и ухабистому проселку, Чудак как ни старался, а все не мог отделаться от ощущения, что он давно уже гоняет здесь машину к карьеру и обратно. Туда и обратно. Туда и обратно. А по вечерам, возвращаясь домой, он, не кто-нибудь, а именно он, Чудак, беспечно вдыхает легкий и неназойливый аромат полевых цветов, стоящих на общежитейском коридорном подоконнике в стеклянной банке из-под консервов. Странное, однако, ощущение…
– Куда тебя несет! В передовики-стахановцы выскочить захотел?
– А ну осади! Осади назад, тебе говорят!
– Ишь ты, прыткий какой нашелся!
– Да он же не прыткий, а новенький, о великие, – перекрыл раздраженные выкрики мощный бас Михаила Ордынского. – Он все еще полагает, что на гражданке царит такой же порядочный беспорядок, как в только что покинутой им «несокрушимой и легендарной»!
Самосвалы у карьера продолжали выстраиваться в длинную очередь, и водители стали выпрыгивать из душных кабин, чтобы пока суд да дело покурить в компании, потолковать друг с другом о том о сем с утра пораньше да поругать, как водится, начальство за слишком медленную погрузку. А Чудак неторопливо, но решительно отошел от шоферской братии по разнотравью в сторонку, лег на чуть влажную от насыпавшихся на нее росинок землю и, склонив к своему лицу несколько стоявших на длинных стеблях ромашек, осторожно понюхал их и затем отпустил снова. И вспомнился тотчас далекий денек, и ощутилась невидимая, но теплая и, верно, широкая ладонь ветра, гладившая высокие хлеба и пригибающая их в полроста, и привиделся как наяву тот колесный трактор с прицепленным к нему неуклюжим и разноголосо громыхающим комбайном «Сталинец». И проступили вновь через время и расстояния голая стерня, да вороха золотистой соломы позади, да блеклый от пыли и потому некрутой выгиб летнего неба, да весело плещущая в темный бункер светлая пшеничная струя.
В аккурат перед войной, совсем еще мальчонкой, определили Федю (его и тогда звали Федей, только фамилия была не Ломунов, а другая, ныне запретная) в колхозные подпаски. И вот, помнится, потемну, когда еще все звездочки до единой цепко держались на черном, на даже с краю не подплавленном зарей небе, раздавался призывный голос нехитрого самодельного рожка. Раздавался мягко, бережно, певуче, раздавался так, что до выхода стада за околицу почти ни разу не прерывался, перемещаясь неторопливо от самого дальнего конца улицы к центру, а затем от центра – к другому краю просыпающегося села.
– Ну и сморило же меня вчера к полуночи, – всполашивалась какая-нибудь хозяйка. – Чуть было не прозевала Федюшкин рожок.
– С чего бы это на молодую вдовушку такая напасть? Гости-то у меня собирались давеча, а не у тебя, – так же весело и со значением откликалась ей соседка. – А может, какой из них опосля и к тебе завернул? За это, кума, ты нонеча и мою Беляночку вместе со своей Красухой обязана тогда проводить.
Пел рожок, пел – и коровы с негромким мычанием брели на нежные звуки его пока еще поодиночке, вышагивали, придерживаясь в темноте невидимых троп, привычно направлялись туда, за околицу, туда, на седой и прохладный от росы, на духовитый от ромашек, чобора и полыни выгон.
– Шнель! Бистго! Ошен бистго!
– Тавай! Тавай! Шнель!
Эти резкие крики во дворе не вернули даже, а прямо-таки переметнули маленького Федора от довоенных воспоминаний к другой действительности, к той жутковатой действительности, в которой его родное село было переполнено по-хозяйски лопочущими на непонятном языке вооруженными, загорелыми и грубоватыми людьми. Семья Федора сидела за чисто выскобленным столом перед чугунком остывшей, несоленой и посиневшей картошки, когда в избу, столкнувшись поначалу в дверях, ввалилось сразу несколько солдат с, похоже, легкими и такими по «виду нестрашными автоматами на груди.
– Бистго! Ошен бистго!
– Тавай! Тавай! Тавай!
В селе и раньше по избам судили-рядили о готовящемся этапе, поговаривали о нем, не особенно в него веря, а теперь вот солдаты грубо выталкивали людей во дворы и зачем-то выбрасывали следом из пустеющих горниц и сеней подушки, одеяла, половики и даже целые пилки с посудой. А по улице уже шли, шли и шли старики, женщины и дети, кто с узелком, кто с корзинкой, а кто и с полотенцем или иконой в руках. Некоторые прижимали к груди кое-как спеленутых и орущих Младенцев, иные, словно бы обезумев, тащили за собой на веревках упирающихся коз, овец и телят,
– Шнель! Шнель!
– Тавай! Тавай! Тавай!
И теперь уже не верилось Феде, что еще какой-нибудь месяц тому назад здесь мирно и непугано звенели не различимые на фоне лишь начинавшей светлеть выси жаворонки. Не верилось, что это здесь неторопливая рань, надвигающаяся из-за дальнего окоема, вчера еще не под каркающие понукания, а в тишине растворяла в себе звезду за звездой – сперва те, что поближе к востоку, потом те, что над самой головой, а там уж и те, что на другом краю неба. А крупная роса смягчала травы и холодила босые ноги подпаска, Старавшегося следом за опускавшими морды и передвигавшимися вполшага коровами ступать так, чтобы не потухало в неглубокой стежке позади переливчатое сверканье. «Сейчас всякая былинка становится слаще, потому как пребывает в самом соку, – в подражание пастуху вслух в той тиши рассуждал Федя, не торопя стадо и привычно прислушиваясь к мягким хрустам и звукам прожевывания. – С утра ни мухи, ни оводы не липнут к скотинке, и даже ее молодняк не бегает пока, задрав хвост коромыслом…»
– Бистго! Бистго!
Остановив людей на лугу, солдаты стали поглядывать вопросительно на молоденького офицера с плетеными, похожими на обрывки пастушьих бичей погонами на узких плечах. А тот не спешил – ладный, подтянутый, гладко выбритый, перехваченный в талии широким ремнем с новенько желтеющей на нем слева кобурой парабеллума. Наконец, офицер, передвигаясь боком и брезгливо тыча перед собой пальцем, отделил от общей массы стариков, старух, баб с грудными младенцами, коз, овец и телят и надменно вскинул подбородок в сторону села: этим, мол, вернуться обратно. Остальных солдаты окружили реденькой, но внимательной цепочкой и погнали по дороге, разбитой-расколоченной еще с весны тысячами колес и, казалось, утыкавшейся далеко впереди в мрачную и крутобокую стрелу силосной башни.
– Господи, куда ж это нас?
– В Германию, соседка, – ответил Федин отец, поправляя черную повязку на правом глазу, потерянном им давным-давно в яростной стычке обманутых властью комбедовцев с выселяемыми в Сибирь обманутыми той же властью кулаками, – Угоняют, сволочи, хуже чем татарва!
– По другой бы гляделке тебе за такие слова шарахнуть, – с неожиданной злостью обронила на ходу сухая как жердь татарка, у которой муж и оба сына с первых дней войны были на фронте. – Нашел с кем равнять… У, шайтан бракованный!
В грязном, пронизанном сквозняками и резко дергающемся на ходу товарном вагоне Федина мать, потеряв сознание, лежала под ногами у освободивших небольшое пространство людей – желтая с лица, как прошлогодняя солома, с мелко подрагивавшими губами и редкими каплями пота на лбу и на щеках. Пока еще оставалось у кого-то, готового поделиться ею, немного тепловатой и затхлой воды, Федя осторожно поил маму из помятой крышечки от зажигалки, найденной тут же, на загаженных досках пола. На второй день пути спасительные капельки воды окончательно иссякли. И дыхание больной теперь то вообще прерывалось ненадолго, то, возвратившись, становилось частым-частым, словно это, подражала она натруженно пыхтевшему где-то в голове состава неутомимому паровозу. Забывшемуся ничком у материнского плеча мальчишке снилось рйзморенное жарой коровье стадо, пестро сгрудившееся в самый солнцепек на обжигающей босые ступни речной гальке. Неподвижно застывший воздух густо отдавал парным молоком, а коровы нервно подергивали кожей, сгоняя с нее оводов, коровы хлестко отмахивались хвостами от назойливых паразитов и слизывали их – огрузневших от крови – со своих беков бледными и шершавыми языками. Потом стадо словно бы сбрасывало с себя тяжелую и тягучую дрему, и умные животные степенно, сквозь желтоватые зубы, не торопясь и впрок цедили, вбирали, втягивали в себя прогретую за долгую половину летнего дня обильную воду.