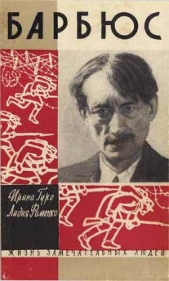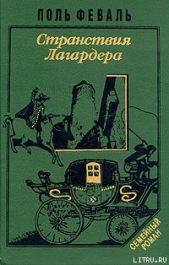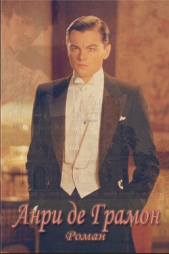Король без завтрашнего дня

Король без завтрашнего дня читать книгу онлайн
Так кто же на самом деле является истинным убийцей Людовика XVII, узника из Тампля, сына Марии-Антуанетты, «ненавистной австриячки», окончившей свою жизнь на эшафоте?
Этим вопросом задается главный герой романа писатель Анри Нордан вскоре после того, как берется за создание сценария фильма, посвященного судьбе этого ребенка, ставшего еще одной кровавой жертвой французской революции.
Его главным подозреваемым становится Жак-Рене Эбер, любимый автор санкюлотов, редактор самой скандальной газеты эпохи всеобщей свободы и всеобщей гильотины. Удастся ли Нордану узнать правду?
История французской революции после прочтения этой книги уже никогда не станет для вас прежней.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анри заранее поставил перед хорами два стула для Доры и себя, на три четверти развернутые к гостям церемонии. В качестве инструмента для звукового сопровождения была выбрана виолончель, уже стоявшая в апсиде.
Дора дрожала от холода. Когда собрались все приглашенные, Анри обратился к ним с речью, которую незадолго до того нацарапал на листке бумаги, сидя в кафе «Людовик XVI», расположенном поблизости, окна которого выходили на сквер.
В горле у него пересохло, и деланная беззаботная улыбка, конечно, не могла никого обмануть.
— Мне нравится это слово — «искупление». Оно весомое, органичное, кажется, что оно воздействует на наши грехи физическим, даже хирургическим способом. Если прощение не знает, что еще сделать с грехами, кроме как их отпустить, то искупление словно изгоняет их из тела. Перед тем как принять Дору в свою семью, как единокровную, так и дружескую, я счел необходимым искупить все наши грехи: все проявления гордыни, гнева, зависти, жестокости, лжи. Это не помешает нам снова грешить — так уж устроена жизнь.
Бросая в лицо каждому обвинение в грехах и слабостях, Анри вдруг подумал о том, что помимо родственников и друзей, приглашенных на сегодняшнее торжество, в часовне незримо присутствуют и его книги. Словно каждый из его близких носил на лбу клеймо какого-то свойственного только ему порока, которому Анри противостоял в одной из своих книг. Они тоже были здесь, в одеяниях кающихся грешников, — ради своей вящей славы, подумал Анри.
— Это место показалось мне самым подходящим, поскольку этот храм воздвигнут во искупление самых отвратительных преступлений Истории — убийства отца и матери и заключения ребенка в тюрьму. И если так было сделано, чтобы мы все несли груз этой памяти, то я принимаю на себя свою часть этого груза и этой вины. Я собираюсь написать книгу о Людовике XVII, и я собираюсь жениться. Я не разделяю свою жизнь и свои книги и надеюсь, что это продолжится в дальнейшем. В наше время каждый выбирает свой способ искупления. Некоторые проходят на коленях путь в Сантьяго-де-Компостелло, стирая их в кровь. Я же просто предлагаю вам послушать самую прекрасную в мире музыку на протяжении нескольких минут. Такое искупление приятно, но от этого не менее глубоко. Лично я надеюсь искупить свой грех гордыни, из-за которого стал на своей свадьбе не только мужем, но и распорядителем. Но самое важное сегодня — конечно же представить вам Дору, эту чистую душу.
Анри сам не заметил, как уже приблизился к финалу своей речи. Теперь он почти сожалел, что она оказалась такой короткой, надо было сделать ее длиннее.
Он сделал знак виолончелисту, а сам вернулся к Доре, которая по-прежнему улыбалась. Она не все расслышала в речи Анри, но поняла или угадала, что он хотел сказать. У нее стучали зубы. Анри заметил это в тот момент, когда виолончелист начал исполнять сонату Баха. Тогда он снял пиджак и накинул его на плечи Доры, сознавая, что этот жест не остался незамеченным.
Гости слушали искупительную музыку около получаса, а потом все отправились в мэрию.
Речь женщины-мэра была чертовски республиканской.
Не буду вскакивать и устраивать скандал, подумал Анри. Все, с этим покончено. Я уже большой мальчик.
По завершении речи, когда все собравшиеся зааплодировали, он поднялся и чуть слышно прошептал жене на ухо:
— Да здравствует король!
~ ~ ~
Революция была непрерывной, все усиливающейся экзальтацией. В то время как в провинциях напропалую убивали и грабили, в Париже каждый день устраивались народные празднества. Освобожденные слова создавали новый мир. Больше не было ни денег, ни больниц, ни школ, больные и старики остались без поддержки, тысячи сирот скитались по улицам, предоставленные сами себе; но «на уровне классового сознания» царило полное торжество идей Просвещения, главной из которых было установление общественного договора. Именно тогда построили Пантеон, чтобы перенести туда прах великого Жан-Жака.
Эбер снова жил полной жизнью. Растущая популярность папаши Дюшена, его разнузданные скабрезные комментарии оказывали все больше влияния на политическую современность. Санкюлоты считали его своим герольдом.
«Стоит мне на улицу выйти, как отовсюду слышу: „Смотри, смотри, видал папашу Дюшена?“ Проходу мне не дают. „Ах, так это вы тот самый папаша Дюшен?“ — говорит один; другой меня дергает за куртку; третий смотрит так, словно я, мать его, зверь какой в клетке, и лыбится; еще один вываливает на меня целый ворох премудрых слов, из которых я ни черта не понимаю. Уж сколько раз их посылал к едрене фене, и никакого толку. Аж голова кругом! Вот же хрень какая — прославился!»
Однако у этой славы были и положительные стороны: она открывала папаше Дюшену все двери, позволяла совершать любые дерзости. Вот он у королевы, которая принимает его за утренним туалетом в павильоне Флоры. Папаша Дюшен робеет в такой обстановке, но после хвалится: «Мы проговорили полчаса, и я ни разу не сказал „ёптыть!“ — вы бы знали, чего мне это стоило!» Вместе с тем он упрекает Марию-Антуанетту в том, что она подстрекает своего брата к войне, шпионит в пользу Австрии, собирается сбежать и забрать с собой дофина как заложника.
«Я ей присоветовал, чтоб малость оживить торговлю, выкинуть все свои гребаные тряпки, которые из Италии и прочих заграниц, а вместо того чтоб покупать это барахло, наладить кружевное и мануфактурное дело у нас, во Франции, и подать всем вертихвосткам пример настоящей роскоши. И самой радость, и государству польза. Она мне пообещала, что постарается, на благо всех французов».
Папаша Дюшен извиняется за свой стиль в разговоре с королем (теперь их беседы почти дружеские):
«Вы уж простите Бога ради, что я грубияню, это для того, чтоб лучше расслышали мои жалобы. А привычка такая у меня появилась, когда я служил во флоте вашего величества, участвовал в боях и проливал кровь за вас. Эти ругательства облегчали морякам жизнь и помогали защищать родину.
Проклиная все на свете — и службу, и море, и врагов, — они все ж таки обеспечивали вам мир, покой и процветание. Вот и нынче, небось, солдаты побеждают на фронтах с помощью того же самого».
Так Эбер записывал все, что слышал на улицах, практически без изменений. Достаточно было лишь нескольких грубых выражений, чтобы народ его признал. Он никогда не изымал их из своей санкюлотской риторики. Это был рефрен, фабричная марка, характеризовавшая его как человека из народа и оберегавшая его газету от излишней зауми. Никакой благопристойности! — таков был его девиз. Век спустя братья Гонкуры призывали читателей «Писем»:
«Не обманывайтесь всеми этими непристойностями — они здесь играют примерно ту же роль, что и обычные знаки препинания; превозмогите отвращение — и вы разглядите за ними умелую тактику, ловкую манипуляцию, способствующую созданию популярности и делающую доступными народу правительственные тезисы и абстрактные политические материи. Вы увидите напористый, яркий, сочный, раблезианский язык, использующий комические и непристойные элементы, но от этого лишь обретающий чистоту и звучность колокола, четкость и рельефность, полемическую силу, грубый и надежный плебейский здравый смысл. <…> Настанет день, когда, оценивая художественные произведения, мы не будем вспоминать о том, чьи руки сжимали перья, и тогда сможем оценить силу духа, оригинальность, даже красноречие — возможно, единственное красноречие Революции — папаши Дюшена и его создателя — Эбера».
В этом признании писательских заслуг Эбера Анри видел и признание всей «литературы висельников», от Франсуа Вийона до Селина, включая де Сада, Жарри, Леона Блуа. Это даже не литературное течение — это цепь, тяжелая, грохочущая, причиняющая мучительную боль. Измеряли ли Гонкуры всю преступную силу слов папаши Дюшена? А если да, то сохранилось ли у них стремление возносить литературу превыше всего? Но это не проходит даром:
«Нас едва не побили камнями за признание того, что Эбер, автор „Папаши Дюшена“, которого никто не читал, обладал талантом».