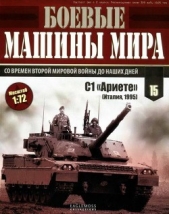По поводу одной машины

По поводу одной машины читать книгу онлайн
Тема романа Джованни Пирелли «По поводу одной машины» — человек в мире «индустриальной реальности». Книга проблемная в полном смысле слова, в ней переплетаются элементы романа и художественной публицистики, острой, смелой, колючей, в чем-то пристрастной и односторонней, но в высшей степени актуальной. Герои книги — рабочие, техники и в большой мере — машины. Пирелли пытается поглубже заглянуть в самую суть человеческих и социальных проблем, возникающих в «неокапиталистическом» обществе. Настроен писатель мрачно и пессимистично. Сегодняшняя «индустриальная реальность», такая, какой она сложилась в Италии, вызывает в Пирелли протест, недоверие и злую иронию. И в то же время наряду с разочарованием и скепсисом мы чувствуем душевную боль писателя, его острую жалость к людям. В книге много спорного; это насквозь политизированный роман, очень интересный, но очень жестокий и крайне пессимистический. Сильно преподнесена в романе тема «хозяев». Глава фирмы, о которой идет речь, обладает поистине мертвой хваткой. В разговоре с одним из своих инженеров он заявляет, что первая фаза промышленной революции закончилась, начинается вторая, и теперь успех зависит не от госдепартамента или Международного банка, но от энергии и инициативы самих промышленников и высшего технического персонала, а между тем промышленники еще не создали внутри своего класса, а также в международном масштабе авангард, сознающий подлинные свои функции. Опубликовано в журнале «Иностранная литература» №№ 6–7, 1968
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Оказывается, спускаться с «Голгофы» еще горше, чем на нее взбираться, — вздыхает, возвращаясь в цех, работница с «Гумбольдта» Бруна Брамбилла (к Брамбил-лоне не имеющая никакого отношения; она из Лоди, вдова, муж погиб на русском фронте). По ее собственному определению, она из породы «бунтарей». — Раз уж мы все равно шляемся, давайте заглянем к Кишке!
Перед тем как идти к Рибакки, та же Бруна Брамбилла делает еще одну попытку обработать Гавацци, так как, по общему мнению, только она способна проесть Кишке печенку. Но та ее отшила:
— Идите вы все к черту!
Рибакки выдержал натиск, а также попытку Бруны Брамбиллы пустить слезу (впрочем, решительно пресеченную ее товарищами), не поведя бровью. Он сидел за столом, опустив свои близко поставленные глаза, и вертел в холеных руках резинку до тех пор, пока не превратил ее в сплошной комок. Наконец, не поднимая глаз:
— А что сказал господин Бонци?
— Господин Бонци? По таким делам мы разговариваем только с вами. С инженером и с вами.
Вопрос Рибакки прозвучал странно. Еще более странной показалась следующая фраза:
— Отныне соблюдайте субординацию. Господин Бонци начал разбираться в жизни цеха, и было бы неправильно не поставить его в известность о том, что вас беспокоит.
Воспользовавшись недоумением и замешательством Брамбиллоне и других, эта гадюка Рибакки как бы между прочим бросает:
— Будьте добры, сообщите вашим друзьям, что восстанавливается старый распорядок: сорокачетырехчасовая неделя.
— И для «Бронделей», и для «Гумбольдтов»?
Рибакки: — Для тех и других.
— А намоточные?
— Если бы вы меня не отвлекли от дела, у меня уже были бы готовы для вас новые учетные листки.
Он кладет руку на стопку заказов — в подтверждение своих слов и чтобы прикрыть шифр «С» — «Склад». Он и сам не знает, откуда привалило столько. Как бы, там ни было, а приказ явно идет вразрез с железным принципом: ни в коем случае не накапливать задела. Рибакки терялся в догадках; он кое-что подозревал, могло быть и так, но проверить трудно. Единственный, не подлежавший сомнению, хотя и неопределенный вывод сводился к следующему: наверху что-то затевают.
Делегация возвращается в цех. Одни с сияющим видом, словно восстановление сорокачетырехчасовой недели — их личная заслуга. А кое-кто (например, Брамбиллоне), хмурясь: если на заводе что-то происходит, что на первый взгляд кажется бессмыслицей, то это еще вовсе не значит, что так и есть на самом деле — просто до смысла трудно доискаться.
XXV
Последние несколько дней Марианне чудится, что «Авангард» издает какие-то непривычные звуки. Не сразу после утреннего туалета, когда он наращивает скорость и выдает первые десять, двадцать, тридцать метров кабеля, а немного погодя. Марианна уверяет себя, что «Авангард» ни при чем, что ей это чудится. Но ближе к обеду посторонний шум слышен отчетливо. После обеденного перерыва он исчезает или слышится временами, чуть-чуть. По мере того как за окнами вечереет, шум усиливается. Это стало правилом: к концу дня шум усиливается и уже больше не пропадает. Откуда он исходит, сказать невозможно. Стоит Марианне сойти с места, как он перемещается чуть подальше к краю машины. Какой он? Трудно сказать. Возможно, вращающаяся масса где-то слегка деформировалась и задевает за протектор. Нет, вряд ли. Может, вывалился болт или шурупчик и гремит внутри? Или просто ослаб и, выдаваясь больше обычного, за что-то задевает? И это маловероятно. А что, если при смене катушек домкратом помяло?
Скоро пять. За окном — густой туман, поэтому смеркается раньше, чем обычно. Опять этот шум… Не очень сильный, но со скрежетом.
Марианна принимает решение:
— Сварщик!
В цеху она зовет Сальваторе не иначе, как сварщиком.
Он подходит, толкая перед собой каталку с аппаратом для автогенной сварки — будто тележку вдоль дамбы или вдоль межи.
Марианне нравится, что в облике владельца мотороллера угадывается хлебопашец. Ей это представляется гарантией… Гарантией чего? Ведь если она и выйдет замуж, то не за Сальваторе, а за человека лет сорока, вроде Берти, только не такого немощного и повыше ростом.
Сальваторе удивился: «Авангард» работает. Он осматривает машину. На ходу он видит ее впервые.
Марианна: — Я тебя позвала, чтобы спросить, что это за странный шум, как по-твоему?
Сальваторе (прислушавшись): — Я ничего не слышу.
— Не слышишь? Повернись другим ухом!
— Что я должен услышать?
— Боже ты мой! Что-то стучит, стучит, а что это может быть, я не знаю…
— Никакого шума нет. — Потом — Марианна…
— Молчи. Сейчас гораздо слышнее.
— Может, ты… не знаю, как сказать…
— Что — как сказать?
— Не знаю, как это говорится. Может, у тебя…
Сальваторе обескуражен, удручен. Молчит. Потом вдруг нашел нужные слова и обрадовался:
— …расшалились нервы? — Точно: расшалились нервы.
— Марианна. — Надеюсь, ты не станешь меня уверять, что я все это придумала?!
— Я так не говорил.
— Нет, говорил. А теперь струсил и увиливаешь.
— Я думал…
— А ты не думай! Так будет лучше.
— Я все время об этом думаю. Даже по ночам.
Марианна (в отчаянии): — Кроме всего прочего, ты еще и глухой! Глухой, как тетерев!
Сальваторе (мягко): — Почему ты не остановишь машину? Разве ты не слышишь, что обрыв?
Марианна (нажимая красную кнопку и отводя рычаг): — Раз есть обрыв, паяй! Ты ничего другого не умеешь. И заткнись! Очень ты мне нужен, деревенщина!
Вот как она его отделала. Выдала ему по первое число, поставила на место. Теперь между ними все кончено. Сальваторе склонился над оборвавшейся проволокой. Он делает свое дело. А сам нет-нет, да и глянет на Марианну. Успокоился. Благодарен, что она перестала его дергать, оскорблять. Да что же он за человек? Разве это мужчина? Еле ворочает пальцами. Медлителен до ужаса. Недоразвитый. Умственно, физически — всяко. Нет, она не права: каждое движение его точно рассчитано, одно следует за другим четко, без колебания. Даже теперь, после того как он выслушал от нее столько оскорблений. Под конец он опускает глаза, ощупывает проволоку— проверяет, нет ли утолщения на месте спайки. Закончив, он не поднимает глаз (раньше, бывало, ликвидировав обрыв, он взглядом как бы спрашивал: «Правда, я все сделал быстро и хорошо?»). Сейчас он выпрямляется, но глаз не поднимает.
Марианна: — Давай договоримся! Я больше знаться с тобой не желаю. Делай что тебе положено и уходи!
Глядя, как он собирает инструменты, укладывает их на каталку и удаляется (ни дать ни взять — мужик с тачкой!), она повторяет, на сей раз себе: «Больше никогда!» — и подходит к пульту управления. Последний взгляд в сторону удаляющегося Сальваторе — не выкажет ли он запоздалых признаков возмущения, но тот даже не обернулся, спускается по скату, ведущему из цеха «Г-3» в цех «Д-1». Марианна нажимает кнопку. «Авангард» недвижим.
— Это еще что?!
Она нажимает решительнее. Никакого впечатления. Нажимает двумя руками. «Начинается! Что за капризы? Решил устроить мне сцену?» Широко расставив ноги, засунув руки в карманы спецовки, Марианна клянет Сальваторе:
— Деревенщина! Вот деревенщина!
За окном дождь. Частый-частый. Капли барабанят по стеклам, образуют быстрые ручейки. А утром казалось, что распогодится. Не все ли равно… «Этот чудак обожает туман, мороз, ливни. Он свидания не пропустит. И сегодня тоже придет. А если нет? Если не будет на обычном месте мотороллера… Или — выйду, а он стоит, как всегда, широко расставив ноги, подняв воротник, без шапки, на волосах изморозь, губы трубочкой, будто что-то насвистывает… Вот дурак! Не мог потерпеть час-другой, именно перед „Авангардом“ ему понадобилось выламываться — изображать страдание, тревогу… Все равно надо с ним кончать. Слишком много ему напозволяла. Вот так, каждый вечер, понемногу, казалось бы чепуха? А вошло в привычку, и он уже предъявляет на тебя права. Доказательства? Да хотя бы то, что этот субъект позволяет себе выступать не только в роли воздыхателя или жениха, но чуть ли не мужа! Хватит! Пусть найдет себе другую. Страшненькую и глупенькую — иная с таким чучелом связываться не станет. Ни за что. А если и согласится, то только для того, чтобы выставить как следует, вроде как та потаскушка, которая держала его при себе, чтобы он водил ее каждый вечер в кино. В конце концов он и ей надоел. Почему бы ему не взять себе Амелию? Она для него идеал: плоскогрудая, бедрышки как раз по величине заднего сидения „Ламбретты“».