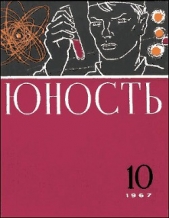Светозары
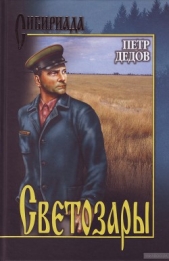
Светозары читать книгу онлайн
Сколько бы ни писали в разное время о Сибирской земле, да всё по-разному. Потому как велика и неповторима Сибирь, и нет в ней двух похожих уголков. Можно всю жизнь путешествовать по бескрайним степям, по тайге и болотам, а все равно каждый день открывать землю эту заново!
Роман известного сибирского прозаика Петра Павловича Дедова во многом автобиографичен и оттого еще более интересен и достоверен в раскрытии самого духа Сибирской земли.
Книга издана к 75-летию писателя..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дядя Яков тоже остановился и смотрел в небо. Я заметил, что и женщины, копавшие в огородах картошку, распрямились, запрокинули головы, приставив к глазам козырьком ладони.
Эх, черт!.. Что-то горячо шевельнулось у меня в груди. Ну, как, чем выразить, запечатлеть все это? Какими словами? Как рассказать об этих за мордованных работой и нуждою бабах, у которых порою и минутки нет, чтобы взглянуть в небо? О чем думает каждая из них, провожая лебединую стаю? И торопливо начинают вызванивать, складываться строчки:
В заботах о насущном хлебе,
Заполнив будни суетой.
Мы очень редко взглянем в небо
Полюбоваться красотой.
Нет, не то. Шибко по-книжному, шибко умом, а не сердцем. Не то, не то…
Мы идем дальше. Лебединая стая скрылась, но в небе появилась другая, еще больше первой.
В переулке натыкаемся на Сашку Гайдабуру. Посреди дороги он сидит на своей инвалидской коляске и смотрит вверх, на лебедей. Лицо у него темное, рот раскрыт, волосы растрепаны, по щекам катятся слезы, — он, как обычно, пьяный. Дядя Яков останавливается над ним, широко расставив длинные ноги и заложив за спину руки, — как Гулливер над лилипутом.
— Ну, шо, сынку, робыть с тобою будем? — непонятно спрашивает он сына.
— Bo-oна! — машет Сашка рукой вослед стае.
Что она напомнила ему, что всколыхнула в тяжелом от вина сердце? Может быть, вспомнилась та далекая сенокосная пора, лунная ночь на Чанах, красавица Тамарка Иванова, одинокий лебедь на озере, на серебряной лунной дорожке. Одинокий лебедь… Словно уже тогда, в самом расцвете беззаботной буйной юности, судьба дала знать, отметила Сашку своим черным знаком…
4
Иногда я заходил к Гайдабурам — к дружкам своим Ваньке-шалопуту и Васильку. Нередко заставал дома и Сашку. Обычно он или лежал в горнице на низком топчане, или сидел в закутье, прямо на полу, на подстеленном потнике, и чеботарил: починял сапоги либо ботинки. Это когда был трезвый. Тогда он был угрюмый, неразговорчивый. Багровое, одутловатое лицо его выражало безмерную тоску.
Но трезвым Сашка бывал редко. Моя бабушка Федора удивлялась: «Кажин день халкать — это где ж его, винища-то, набраться? Это ж надо миллионщиком быть! Дворы-то в деревне уж все по сто раз оползал, уж редко кто подает ему во дворах-то…»
Но, оказывается, Сашку спаивали не только сердобольные вдовы да сочувствующие его горю мужички-фронтовички. Не только они.
Как-то, придя к Гайдабурам, я застал Сашку за работой. Он споро ковырял шильцем, бойко постукивал чеботарным, с круглой, похожей на свиной пятачок, нашлепкой, молоточком, вбивая в спиртовую подошву ботинка деревянные гвоздики-шпильки. Со мной он поздоровался приветливо, мы даже поговорили маленько, вспомнили, как вместе когда-то косили пшеницу на лобогрейке. И как только в разговоре коснулись этого, Сашка сразу помрачнел, отбросил в сторону ботинок, отвернулся от меня. Может быть, ему представилось, как приходила к нам на полосу Тамарка, бывшая его жена, приносила обед.
Он злобно зыркнул в мою сторону, а я шмыгнул к ребятишкам в горницу, от греха подальше.
— Мать, подь сюда! — взревел Сашка за дверью.
— Ну, шо тоби? — недовольно отозвалась тетка Мотря из сенцев. — Шо базлаешь?
— Налей! — крикнул Сашка.
Скрипнула дверь, тетка зашла в избу.
— Сашенька, сынок… — начала она умоляюще.
— Бражки! — заорал Сашка.
— Ты, мабудь, перемогнешь, Сашенька, — в ее голосе послышались слезы.
— Ах, так? Ну, погоди! — угрожающе сказал Сашка.
— Добре, добре, принесу. Тико один стаканчик, ладно? — испуганно затараторила тетка Мотря.
Она куда-то убежала, хлопнув дверью.
— Зачем она его поит? — шепотом спросил я у Василька.
— Ты же знаешь: Сашку два раза вытаскивали из петли, — так же шепотом отозвался Василек. — Вот он теперь и пугает мать. Она специально для него делает бражку тайком от отца.
Вот такое у Гайдабуров нынче веселое житье. Но и эта беда — не беда. Заходя к ним, я нередко слышал, как тетка Мотря бранит мужа, дядю Якова.
— Опять по дворам як пес непутевый бегал? — спрашивает она, обычно после дядиного «подворного обхода».
— А шо ж робыть? Взяла бы да подменила меня. Кажуть, сучки всегда злее псов, может, у тебя лучше дело бы пошло, — неуклюже отшучивается дядя Яков.
— Подменить?! Та я скорее сортиры чистить бы пошла, чем пид окнами, як нищему, каждое утро петь, людей на работу вымаливать!
— Ну, ты это… Який такий нищий? — сердито кряхтит дядя, согнувшись в три погибели и стягивая сапог. — Подмогни трошки!
Мотря цепко хватается за сапог, упираясь, тянет изо всей силы. Дядя хитро щурится на нее: он, видать, нарочно придерживает сапог.
— Тягни дюжее! — подгоняет он и вдруг расслабляет ногу. Тетка в обнимку с огромным сапогом кубарем летит на пол.
— Це тебе за нищего! — хохочет Яков.
Сапог летит в него, он насилу успевает отклонить голову.
— Шоб тоби разорвало! Шоб тоби очи повылазили! — сквозь слезы кричит тетка Мотря. — Ты ж ще хуже нищего пид окнами да пид дверями у людей ползаешь! Бачила я, как ты тую сучку, Таскаиху, на работу выманивал. Трошки на колени не встал, готов задницу был ей цилуваты.
— Шо же мне робыть, мать, коли люди токи несознательны? — серьезно пожаловался дядя. — А шо пид окнами… На то, видно, и слуга народа. Меня же выбрали, доверили мне…
— Дурак! — распаляется еще больше Мотря. — Ты ж усю войну прошел, скико орденов имеешь, а зараз в служки подался? Почему ты ей должен служить, той Таскаихе? Побачишь, она из тебя зараз веревки вить начнет. Да ще як бы она одна! А то ведь усе! Смеяться, бачь, скоро над тобой начнут, як над дурачком! У тебя ж такая власть в руках — пугнул разок-другой, люди сами на работу прибегут.
Эти слова, видать, дяде Якову не по нутру. Он грузно поднимается, босиком начинает ходить по тесной горнице, выворачивая по-медвежьи пятки. Усы его угрюмо опущены.
— Це зря ты так, Мотря, — недовольно гудит он. — Сама кажешь, как тебя Илюха Огнев пугал, когда бригадирил, — сладко тебе было? Мы же к коммунизму, бачь, идем. Шо ж, и при коммунизме будем людей пугать, да кулаками на них махаться?
— Да який тоби коммунизм? — видно поняв бесполезность спора, устало откликается тетка Мотря. — Який коммунизм, когда штанов у детворы ще немае. Усю жизнь проколотил ты цым молотом у своей кузни, у четырех закоптелых стенах — и ничего не слыхал, ничего не бачил, — ни людей, ни жизни. Яким дитем был, таким и к старости остался…
5
Нынче занятия в школе начинаются опять с первого октября. Весь сентябрь ребята старших и средних классов помогали колхозу. Программа потом будет наверстываться штурмом.
Скоро в школу. Последние дни работаю я учетчиком в бригаде. Работа мне нравится. Хлопотливая, правда, ответственная, зато все время на людях, в гуще всех бригадных дел и событий. Ни одна новость, ни один случай в деревне не пройдут мимо конторы. А тут еще два серьезных события произошло за последнее время: деревню нашу радиофицировали, а в контору провели телефон, соединив ее с центральной конторою правления колхоза и с райцентром.
Радио, правда, по избам еще не провели, лишь повесили около конторы на столбе единственную тарелку-репродуктор.
И было же потехи, когда эта черная тарелка вдруг неожиданно заговорила человеческим голосом. К столбу с репродуктором мгновенно сбежались собаки со всей нашей деревни. Вначале они, рассевшись вокруг, ошарашенно слушали, задрав морды кверху, а потом подняли такой лай и визг, что из ближних изб повыскакивали перепуганные люди.
Репродуктор гремел день и ночь, оглашая село то песнями, то музыкой, то хриплым бубнящим говором. Собаки с неделю не могли привыкнуть, успокоиться: были нервными, пугливыми, часто по ночам затевали жуткий вой.