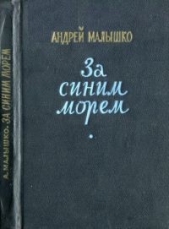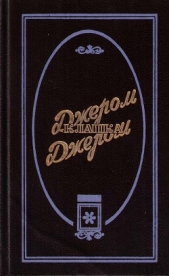Наброски синим, зелёным и серым

Наброски синим, зелёным и серым читать книгу онлайн
«Наброски синим, зелёным и серым» (Sketches in Lavender, Blue and Green, 1897) — сборник рассказов Джерома К. Джерома. Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года в современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я заметил, что было бы лучше совсем бросить курить.
— Я сам подумывал об этом, — подхватил мой приятель. — Но, знаете ли, некурящий мужчина делается таким угрюмым… В табаке есть что-то, способствующее общительности.
И, откинувшись на спинку дивана, он выпустил изо рта огромный клуб дыма, распространявшего прямо-таки невозможное зловоние.
— Потом, не угодно ли стаканчик моего кларета? — продолжал он и сам же ответил себе: — Ну, конечно, нет. Никто не желает пить моего кларета, как и курить моих сигар. А знаете что? Три года тому назад, когда я жил в Хаммерсмите, благодаря этому кларету было поймано двое ночных воров. Они, между прочим, взломали у меня буфет и выпили вдвоем пять бутылок моего кларета. Полицейский нашел их потом лежавшими на крыльце соседнего дома; в ногах у них находился мешок с украденными у меня вещами. Воры, наугощавшись кларетом, так хорошо чувствовали себя, что без сопротивления сдались в руки полицейскому и покорно последовали за ним в участок, где тотчас же были освидетельствованы врачом, который нашел у них острое желудочное отравление. С тех пор я постоянно оставляю несколько бутылок этого снадобья в буфете и на кухонном столе для дарового угощения любителей чужой собственности.
Но сам я привык к этому кларету, и он мне полезен. Приходишь иногда домой полумертвым от усталости, выпьешь стаканчика два и вдруг как бы возрождаешься к новой жизни. Начал я его пить по той же причине, по которой привыкал к этим сигарам. Я получаю его прямо из Женевы, и он стоит мне шесть шиллингов за целую дюжину бутылок. Из чего и как выделывается это вино, — не знаю, да и не желаю знать. Я к нему привык, и оно мне не только по вкусу, но даже приносит пользу, а больше мне ничего и не нужно.
Я знаю одного человека, жена которого была чем-то вроде блаженной памяти Ксантиппы. Она весь день только и делала, что пилила мужа; даже по ночам своим громким храпом не давала ему покоя. Но вот она, будучи все время здоровой женщиной, вдруг от чего-то умерла. Друзья поздравили его с избавлением от такой беспокойной супруги и высказали предположение, что теперь он будет наслаждаться деловым спокойствием. Но — увы! — они сильно ошиблись. Целых двадцать два года голос его жены наполнял дом, проникал сквозь стены, разносился по саду и расплывался замирающими звуковыми волнами по окрестностям, и вдруг такая томительная, подавляющая тишина! Дом стал казаться бедному вдовцу чужим, потому что в нем недоставало привычной утренней бури, визгливой брани и вечернего рокота упреков, сопровождаемого тихим треском пылающего камелька. По ночам вдовец не мог спать из-за отсутствия привычного храпа, в котором ему тоже чудились брань и упреки. Беспокойно ворочаясь с боку на бок, он с горькими вздохами бормотал: «Н-да, мы никогда не дорожим тем, что имеем, а понимаем ему цену только после его безвозвратной утраты!»
Наконец он захворал от бессонницы. Доктора пичкали его всевозможными средствами, но ничто не помогало.
Посоветовавшись между собою, они объявили ему, что если он желает спасти свою жизнь, то пусть отыщет себе вторую жену, которая «напиливала» бы ему сон. По соседству немало женщин, нисколько не уступавших покойнице в искусстве «пилить»; но, будучи еще незамужними, они не обладали достаточною практикой в этом искусстве, а ждать, пока они приобретут полный навык, больному было некогда. На счастье больного, когда им уже готово было овладеть отчаяние, в окрестности умер один человек, по словам кумушек, буквально «запиленный» до смерти острым язычком своей жены. Сам еле живой, вдовец отправился к новоовдовевшей на другой же день после похорон ее мужа. Она оказалась настоящей «колючкой», то есть именно тем, что в данное время было нужно вдовцу. Недолго думая он посватался к ней, и через полгода уже имел ее под своей кровлей.
Однако оказалось, что вторая супруга не могла вполне заменить первую: дух у нее был силен, а плоть оказалась немощна. У нее не было такого, то мощного и раскатистого, то пронзительного, возвышающегося до тончайшей фистулы, голоса, так что полнота его звуков не вся доходила до нового мужа, когда он находился в саду. Это вынудило его покидать свое любимое место под сенью деревьев и садиться на окружавшей дом открытой веранде; только там он и мог вполне услаждаться вокальными упражнениями своей новой супруги. Но случалось так, что лишь только он с трубкой и газетой комфортабельно устраивался на веранде, как супруга внезапно умолкала. Тогда он ронял на пол газету и сидел в напряженном и тревожном ожидании. Проходило несколько минут тоскливого безмолвия, и муж начинал нервничать и окликать жену.
«Тут ли ты, дорогая?» — слышался с веранды его слабый и боязливый голос.
«Конечно, тут! Где же мне еще быть, старый колпак?» — доносился из комнаты раздраженный ответ.
«Что же ты замолкла, голубка? — продолжал он с проясневшим лицом. — Говори что-нибудь. Я так люблю, когда ты говоришь».
Но измученная возней по хозяйству пожилая и слабая женщина часто была не в силах работать еще и языком. Муж впадал в новый припадок уныния и, скорбно качая головой, шептал про себя: «Нет, это совсем не то, что моя незабвенная Сусанна… Ах, какая это была женщина!»
Ночью также было не то, более получаса она не могла производить «пиления» и в полном изнеможении опускала голову в подушки, чтобы тут же тихо уснуть, между тем как ее предшественница могла «пилить» далеко за полночь если не самого мужа, то всех других живых существ, с которыми ей приходилось сталкиваться за день. Храпеть, как храпела покойница, она тоже не умела; а между тем этот храп, казавшийся продолжением «пиления», как я уже говорил, также составлял насущную потребность старичка. Обиженный и огорченный, он тряс жену за плечо и плаксиво просил:
«Голубка, что ж ты оборвала на полуслове? Продолжай о том, как Джини подавала завтрак и как я смотрел на нее. Это так интересно…»
— Вот что значит сила привычки, — заключил мой приятель, закуривая свежую сигару.
— Что касается привычки, то и я могу рассказать вам одну занимательную историю, если пожелаете выслушать ее, — вдруг заговорил молчавший до сих пор нью-йоркский издатель.
Разумеется, мы изъявили полную готовность слушать, и американец начал:
— Человек, о котором я поведу свой рассказ, был родом из Джефферсон-Сити. Он родился в этом городе и в течение сорока семи лет ни разу не проводил ночи вне его стен. Это был очень почтенный джентльмен. С девяти часов утра до четырех пополудни он торговал солониной, а в остальное время был ярым пресвитерианцем. Он всегда говорил, что понятия о хорошей жизни и о хороших манерах — одно и то же. Он вставал в семь часов утра, в семь с половиной устраивал семейную молитву, в восемь завтракал, в девять занимался своим делом, в четыре садился на лошадь, которую ему приводили к этому времени, катался на ней до пяти, потом купался или принимал ванну, пил чай, играл с детьми или читал им вслух. Все это проделывалось им до половины седьмого; в семь он садился за обед, затем отправлялся в клуб, где играл в вист до четверти одиннадцатого; ровно в половине одиннадцатого он уже присутствовал дома за вечерней молитвой, а в одиннадцать ложился в постель и тут же мирно засыпал. Двадцать пять лет он вел такой образ жизни без малейших изменений. Выработав себе такую программу, он выполнял ее машинально. Точность его была так велика, что по нему проверялись церковные часы, и местные «астрономы» уверяли, что он зачастую заставлял краснеть самое солнце своей точностью.
Вдруг умирает один из его дальних родственников, живший в Англии и разбогатевший торговлей в Индии, и оставляет ему все свое состояние, не исключая и крупного торгового дела в Ост-Индской компании. Ввиду такой перемены судьбы ему пришлось круто порвать со всем прежним строем своей жизни. Передав свое джефферсонское дело старшему сыну от первого брака, он со второю женою и ее детьми переселился в Лондон.
Из Джефферсон-Сити ои выехал четвертого октября и только семнадцатого добрался до Англии. Прохворав весь переезд, он прибыл совершенно разбитым в Лондон, где по телеграфу заказал себе особняк с полной обстановкой. Несколько дней он пролежал в постели, но потом оправился и изъявил намерение посетить на следующий день Сити, чтобы ознакомиться там со своими новыми делами. Это было в среду вечером, и он велел разбудить себя на другой день пораньше.