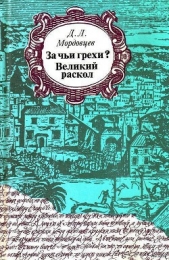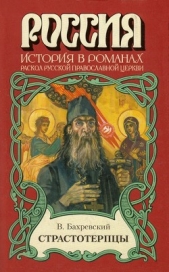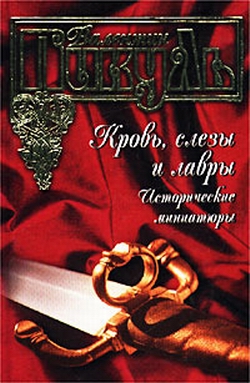Святой патриарх
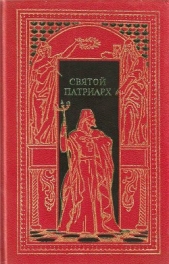
Святой патриарх читать книгу онлайн
О союзе аскетического раскола с неудержимой вольницей в один из сложнейших периодов отечественной истории рассказывает известный русский писатель Даниил Лукич Мордовцев в своих произведениях: романе «Великий раскол», повести «За чьи грехи?».Главными героями книг являются патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан Разин и, конечно же, тревожное и смутное время
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А уж Морозову боярыню, Федосеюшку свет Прокопьевну, и узнать нельзя, таково свято житие её стало, — говорила словоохотливая черница, которую звали сестрою Акинфеею (она была из богатого дворянского рода Даниловых; но поэтическая натура увела её из родительского дому, и она сделалась странницей). — Уж она ноне, отай от всех и от царицы, на теле своём власяницу носит, а дом-от её полон людей божиих, нищих, пустынничков, юродивых, странничков, бездомных; всем-то она своими руками служит, гнойные их язвы омывает, сама их кормит и ест из одной с ними чаши — не брезгует матушка… Утром, чуть свет, помолясь истово, она уже на ногах: то суд творит своим домочадцам да вотчинным деревенским людям, да всё по-божьему, милостиво, то поучает их от писания, а там, родная моя, за прялку сядет, сама прядёт и сама рубахи да порты шьёт; и вечером, соймя платье цветное, боярское, взденет на себя рубище — да и пошла бродить по Москве, по дальним закоулочкам, где бедность, матушка, гнездо свила, да по тёмным темницам и всех-то жалует: кому рубаху, кому деньги, кому и иное одеяние, а то и рубь, и десять рублёв, а то и мешок сотный при случае. Узнает ли кого на правёже, с правёжу выкупает, на кого падёт гнев царский, из опалы того выручает святая душа… И отец Аввакум, бывало, не нахвалится ею: «Такой у меня дочери и не бывало: единое, — говорит, — красное солнышко на небе, единое красное солнышко и на Москве Федосеюшка свет Прокопьевна».
Сестра Акинфея, увлёкшись рассказом, совсем преобразилась. Запылённое и загорелое лицо похорошело, живые серые глаза почернели как-то и были прекрасны. Какой-то дебелый молодой парень, босой, с потрескавшимися от солнца и пыли ногами, с длинными, никогда не чесанными рыжими волосами, с корявым веснушчатым лицом и добрыми детскими глазами, подошёл к ней, сел у её ног на пол и не спускал с неё глаз. Акинфея улыбнулась своими красивыми глазами.
— Ты что, Агапушка? — спросила она.
— Сказочку хочу послушать, — отвечал тот, глупо улыбаясь.
— Какую тебе сказочку?
— Вон ту, что ты ей, — он указал пальцем на Брюховецкую, — сказывала, святенькую сказочку… А меня Никон посохом побил за двуперстное сложение. «Вот тебе, — говорит, — вот тебе»! — И юродивый парень расхохотался идиотическим смехом.
Сидит зайчик пид липкою — очки тре:
Похваляются козаченьки бить мене… —
доносится с берега. Юродивый парень изумлённо вслушивается.
— Ишь, какая хохлацкая служба, водосвятие, — бормочет он, — без попа поют.
Между тем молоденькие пахолята таскали на стол белые хлебы, кувшины с цветными питьями, ковши, солоницы; нанесли горы зелёных свежих огурцов, вяленой рыбы, пирогов.
Мимо двора, по дороге, гурьбой бежали хохлята. Они радостно подпрыгивали, размахивали руками
— Козаки йдуть! Татар везуть! — слышались их звонкие голоса.
— Гетьман! Гетьман иде!
Брюховецкая встрепенулась и испуганно поглядела вдоль большой, тянувшейся в гору дороги. Она не ожидала так скоро своего мужа, и эта неожиданная весть, что он идёт, и радовала, и пугала её. Неужели поход кончен? Не может быть; он не надеялся так скоро вернуться. Притом же она замечала в последнее время, что он часто и долго о чём-то тайно совещался с своими полковниками, рассылал во все концы гонцов и, видимо, что-то таил от неё. Но она и не старалась проникнуть в его деловые тайны: на то он гетман, у него на плечах государево великое дело, так ей, бабе, не след соваться в него. Иногда у него как бы нечаянно стали прорываться сердитые замечания насчёт Москвы, насчёт бояр и воевод… «А! Забирается бисова Москва, мов голодни вовки, в нашу отару!» — срывалось у него иногда с языка. Но жена не придавала этому большого значения: «Осерчал что-то Иванушка на бедную Москву… только, бог даст, ненадолго, отойдёт его сердечко…»
Действительно, скоро показались толпы конных и пеших. Они поднимали невообразимую пыль по дороге. Слышались громкие голоса, смех, иногда выкрикивалось начало песни, которая тотчас же и обрывалась. Что-то недоброе слышалось в этих звуках: такой сумятицы при гетмане никогда не было слышно… Это не гетман едет… Нестройная толпа приближалась к гетманскому дому. Русальные песни замолкли, и толпы гулявшего народа, бабы с черепками и ковшами, дивчата в цветах и парубки с ветками любистка в руках или с люльками в зубах сыпнули навстречу двигавшейся толпе. Заходившее солнце освещало всю эту пёструю картину косыми лучами и кидало длинные тени впереди толпы.
Виднее всех выдавался казак в багряном, словно кровь, кармазине. Он размахивал саблей и кричал:
— Шкода москалям верховодити! Годи вже! Попогодували мы их своим тилом? Чам им додому!..
У Брюховецкой и руки, и ноги похолонули. Странники поднялись и смотрели то на яркий кармазин, то друг на дружку с недоумением и страхом.
В багряном кармазине Брюховецкая узнала Василька Многогришного, родного брата генерального есаула Демки Многогришного. Ни того, ни другого она не любила за их пьяную необузданность и подслуживание, когда они трезвы.
— А! Пани боярыня! — злорадно воскликнул Василько, увидав Брюховецкую. — Идить, велможно боярыня, стричати своего мужа, пана гетьмана боярина! Он вин пьяный лежить на вози, упився казацькою та мищаньскою кровью и головы не зведе…
Брюховецкая стояла, дрожа от ужаса. В толпе между тем раздавались и пьяные голоса, и испуганные крики, и отчаянный вопль. «От-так голота! Повен виз бурякив наклала!» — «Ох матинко! О-о! Ивашечку мий, о-о-о!» — «Гуляй, голота, поки штанив черт ма!» — «Ой-ой! Ой лишеч-ко! Кров мертви забити!»
Показалась телега, запряжённая волами. Чем ближе подъезжала телега, тем очевиднее становилось, что она наполнена доверху мёртвыми человеческими телами. Ярко и страшно кричали глазу чёрные пятна крови…
— Приймайте, пани боярыня, вашего мужа! Разбудить его, крипко заснув! Поцилуйте его кари очи та чорни брови, зарак прокинеться! — раздался пьяный, злой голос Василька.
Брюховецкая ринулась к телеге, протягивая вперёд руки, как безумная. Телега остановилась. Брюховецкая, добежав до телеги, ухватилась рукою за высокую перегородку и, казалось, застыла. На телеге, поверх обезображенных трупов — то была побитая голотою, по подстрекательству Дорошенка, левобережная старшина — лежал, откинувшись навзничь, гетман Брюховецкий. Он был в одной только окровавленной и исполосованной в клочки рубашке: голота раздела его донага… На широкой, поросшей чёрными волосами груди блестел обрызганный кровью золотой крест… Виднелись голые подошвы мёртвых ног, перебитые дубьём колени, пробитые бока и обезображенное лицо с выскочившим из орбиты и висевшим на щеке левым глазом… И брови и усы остались целы…
Эти-то брови и усы и увидела несчастная жена его и, казалось, внимательно рассматривала их… В одно мгновенье безумная, поражённая ужасом мысль её перенеслась в Москву, в Кремль, и она увидела, как тогда, в первый раз, из-за тафты каретного окна, и эти длинные усы, и эти чёрные, дугою, брови… но только тогда под бровями были глаза… а теперь их нет… Вон один висит на щеке… Москва… Кремль…
Из груди её вылетел глухой стон, как бы сквозь крепко сжатые губы, и несчастная женщина грохнулась наземь, взмахнув руками, как крыльями…
— О господи! О-ох! — кто-то крикнул сзади.
— У-у! Та и гаспидськи ж нижки! От ноги! Мов у дитинки, таки маленьки, ув одну жменю заберёшь! — дивился пьяный голос маленьким ножкам, выглядывавшим из-под юбки упавшей на землю боярыни…
Глава XVII. КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА
Прошло три года. Многое из того, что было три года назад, было забыто или вспоминалось с меньшею остротою памяти и чувства: острые боли утраты или разбитых надежд заменились тихой грустью воспоминаний; радость замела собой старые следы горя; новое горе потемнило некогда яркую, светлую радость, смерть заменила жизнь; новая жизнь стала на то место, где ещё недавно стояла смерть со всеми её ужасами. А в общем мир божий был всё тот же: всё то же было небо голубое, так же светило солнышко, так же зеленела зелень, пели птицы, колосилась рожь, как и тогда, когда молодая боярыня Брюховецкая ждала из похода своего Иванушку. И Москва осталась всё та же, как и весь остальной божий кир. Вон она, и старое, и малое, сапог и лапоть, кафтан и сермяга, стремится куда-то за город, за Рогожскую заставу. Вероятно, встречать кого-нибудь. Уж не Никона ли? Нет, его надо было бы ждать не со полудня, а со полуночи: он где-то там в заточении, у Бела озера. Не Аввакума ли? Нет, он ещё полуночнее. А может, нового гетмана на место убитого? Нет, говорят, что донские казаки везут воровского атамана, самого страшного Стеньку Разина. Москве радость — новое зрелище.