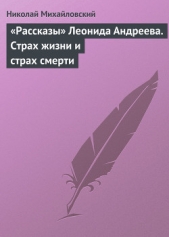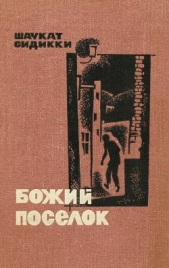Путеводитель доброй жизни (Страх божий, Мудрость, Трезвость, Труд)

Путеводитель доброй жизни (Страх божий, Мудрость, Трезвость, Труд) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- А как ты прозываешься?
- Подгурский, благодетель мой, Подгурский.
- Ну, ну, - говорю, - ты - Подгурский, а я Грушкевич, - и бросил ему на ладонь двугривенный.
- Грушкевич, Грушкевич... знаю, знаю! Взглянул на меня, облобызал мою руку и побежал в кабак... Такая вышла история... Понимаешь ли теперь, что значит: Очима твоими смотриши, и воздаяние грешников узриши? Николай. Теперь понимаю. Онуфрий. А слова: С ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое? Николай. Понимаю. Онуфрий. Знаешь - какая та первая трава, которою я старался добыть себе богатство и долгий век? Николай. Молитва! Онуфрий. Верно! А вторая трава, сынок, называется премудрость. У нас в народе водится поговорка "лучше с умным потерять, чем с дураком найти". И это верно. Дай глупому человеку достаток, богатство, - дашь их на собственную его беду, на большую еще его пагубу и наказание: имение свое он расточит, наживет себе еще больше греха, больше всяких страданий, а то, случается, и душу свою погубит. То же сделает неразумный и с крепким здоровьем, этим великим даром Божиим: неумеренностью, невоздержанностью, пьянством и всяким распутством погубит он красоту и силу тела своего, состарится и одряхлеет в цвете лет, не проживет и половины того века, что прожил бы, когда б имел ум и умел ценить и беречь дар Божий - здоровье. Послушаем, что написал про премудрость человек, более всех прославленный за свой ум - царь Соломон. В его Книге Притчей вот что сказано: Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Подлинно, нет большего счастья, как все потребное для жизни человеку знать и верно понимать, иметь ум крепкий, здоровый и, как говорится, трезвый. А для этого опять же нет большего счастья, как ежели кому Бог даст разумных родителей, которые с малых лет учат дитя познавать, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, и приохочивают его ко всему доброму и полезному. У честных и разумных родителей - хорошие и разумные дети, а у родителей безумных - таковы же и дети. Счастлив тот, кому Бог помог научиться грамоте: читать, писать, да по-настоящему понимать все, что прочтет в книге, и кто имел хорошего учителя - не наемника, что лишь отсиживает в школе из-за денег положенные часы, а такого, что всякого ребенка, вверенного его заботам, берет на свою совесть и на свою ответственность, и учит его ревностно, всем сердцем за награду от Самого Господа в другой жизни. Таков именно был учитель в нашем посаде - покойный Леонович, и все то, что я нынче знаю, я знаю от него, он учил меня не только грамоте, но и как жить на Божьем свете. Сам Бог создал его быть учителем, наделив его светлым умом и непорочным христианским сердцем. Нет дня, чтобы я не вспомнил о нем со вздохом ко Господу, - я молюсь о душе его, да тут у многих имя его записано в синодиках... Но вернемся к Книге Притчей, к словам Соломона о премудрости: Она дороже драгоценных камней; никакое зло не может противиться ей, она хорошо известна всем, приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие - в правой руке ее, а в левой богатство и слава. Из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит... Ах, какие прекрасные и глубокие слова! Именно так: из уст мудрого услышишь только правду; все, что ни скажет язык его, будет закон - наставленье, как жить, а стало быть милость, благодеяние. Собирай же премудрость, разум! Старайся приобретать здравое и верное понятие о вещах Божеских и человеческих. Купи Библию и читай ее; покупай всякие полезные книги и учись из них. Видишь, в моем шкафчике много книг: я, как только узнаю, что вышла полезная книжка, сейчас же стараюсь ее купить. И так всю жизнь. Эти книжки - моя премудрость. Я читаю их постоянно, как только случится досужая минута. Пашня моя, огород, скотина, пчелы мои доставляют пищу моему телу, а эти книжки питают мой ум и мое сердце. Как христианин, я не знаю ничего слаще слов Священного Писания; как для русского, нет для меня ничего милее нашей грамоты, данной нам святыми Кириллом и Мефодием. Заведи себе такой же шкафчик, постарайся иметь много-много полезных русских книг; чтобы не быть невеждой и неучем, чтобы знать свой закон христианский и свое русское Отечество, чтобы тебе было ведомо: кто - враг и кто - друг. Расскажу одну историю. Должен тебе сказать, что всякий город, всякое сельцо, даже всякая изба имеет свою историю или, проще, бывальщину А так как я старый человек, то много уже на моих глазах совершилось разных историй, и в каждой из них содержится полезное наставление. Теперь послушай, что говорит премудрость о том, как вернее нажить богатство и честь. Во-первых, знай и помни, что неправедное добро, не есть добро, потому что раньше или позднее оно непременно изгибнет, если не в руках того, кто его неправедно нажил, то детей его или, самое позднее, внуков. Хочешь нажить достаток, довольство, положи себе за правило, чтобы в доме твоем, под крышею твоею, во всем дворе твоем не было ни на одну полушку неправедного добра - чужого, добытого обманом ближнего, кривдой. "Чужое добро впрок нейдет", - говорит русская пословица. Чужое добро в доме - все равно, что горячая головешка под соломенною крышей: берегись! Во-вторых, что легко пришло, то легко и уйдет, а что добудешь в поте лица, умом да трудом своим и семьи своей, то умножится и принесет плод во сто крат В-третьих, не забывай церковь Божию: из имения твоего каждый год приноси дар на церковь, во славу Божию. Господь Бог в этом не нуждается, потому что все богатства и вся слава наша - прах и тлен в сравнении с небесами и ангелами, которые ему служат. Но это нужно для нас самих, для обновления любви и благодарности в сердцах наших. В-четвертых, помни о бедных, об убогих, несчастных, помни о нуждах своего сельского мира, о своей великой русской родине, и, где надо, дай охотно. В-пятых, не гордись и не величайся своим богатством. Что твое богатство против богатства других, настоящих богачей, и что богатство всего мира против одной только звезды небесной? То же самое, что одна жалкая песчинка против необъятной громады песков пустыни! Чем же тут гордиться?.. Покойный родитель твой рассказывал тебе про нашего барина? Николай. Рассказывал и про барина, и про барыню, что это были господа очень добрые. Онуфрий. Рассказывал и про барышню Анну? Николай. Про дочку их покойный батюшка рассказывал, что она была очень богомольна и добра. Онуфрий. Да, так... Хотя... про них было много толков. Но то, что я про них знаю, что я у них сам видел и слышал, того, друг, сплошь да рядом не увидишь и не услышишь, разве в книжке какой можно прочесть. Смолоду барин наш был очень горд и лют нравом, большой кусок нашего посадского озера оттягал себе под сенокос, - да не помянется ему грех на том свете! Но Бог смирил его, он опомнился и под старость сделался такой кроткий да добрый, что равного ему в этом у нас потом никого уж и не было. Как прежде народ боялся его, точно страшилища, и ненавидел, так потом, когда сделалась с ним эта перемена, полюбил, как родного отца. А случилось это вот как. Мужики на помещика пахали, боронили, возили сено, снопы, лес, дрова, навоз. Сколько чья скотина вытянула, столько всякий и работал. Но вот однажды разослал пан по деревням своих приказчиков за подводами возить навоз. Приехали приказчики и говорят: "Пан уезжает на теплые воды лечиться и желает, чтобы до его отъезда весь навоз был на пару. Кто поедет, - зачтется день барщины, да сверх того за всякий воз - по чарке водки". Ехать всякий был должен, потому что панский приказ - не шутка, а туг еще по чарке водки, до которой народ наш беда как охоч! Принялись мужики дружно за навоз, изо всех сил всякий работал от зари до позднего вечера. Когда покончили работу, пан сам сделал всякому верный учет, и оказалось, что иные успели оборотиться по двенадцати раз. Хорошо, но что ж дальше? Дальше вышло совсем неладно. Пан приказал никому водки не давать, собрал мужиков в кучу и сказал им так: "Ну вот: видите, ребята? До сих пор вы возили мне лишь по четыре воза в день, и я считал это за день барщины. Вы, стало быть, меня обманывали! Ежели сегодня вы смогли вывезти по двенадцати возов, стало быть, и всегда так работать можете. Потому с сегодняшнего числа я стану считать вам рабочий день в двенадцать возов - ни меньше". Так пошло потом и при уборке хлеба. Когда, бывало, вечером начнут складывать хлеб в копны, приказчик с десятниками обходит все поле и меряет снопы бечевкой. Как только который сноп потоньше - связывай два снопа вместе! А не достало двух-трех снопов в копне до шести десятков - пошла работа задаром: день в барщину не засчитывался. Жаловаться народ не смел, - боялся, потому все терпели, - гибли, но терпели! Впрочем, сам-то пан, может, и не был такой лютый, да был у него управитель-гадина, что подбивал его на все эти выдумки. Когда управитель ослеп да стал жить у пана на даровых хлебах, без службы, - народу полегче стало. Богаты были наши помещики, ужасно богаты, и деток им Бог посылал, но детки у них как-то все не росли. Бывало, родится ребенок дюжий, здоровый, но как только вступит в пятый годок, скоропостижно умирает, точно косой его скосит. Так умерло у них десять человек детей, и все по пятому году Сколько покойница-барыня ни убивалась, сколько ни раздавала денег нищим, на церкви да на свои костелы, - ничего не помогало. Умер десятый ребенок, и пять лет после того детей у них уже не было. А она каждый день - на кладбище да на кладбище: плачет, убивается - до обморока. Опротивели им уже всякие имения, да и подлинно, на что ж человеку все это, когда нет у него ни одного ребенка? Но вот раз приходит к ним в усадьбу старик нищий, седой совсем, старый-престарый. Барыня вышла к нему, подала серебряную монету, да и говорит: "Молись, дедушка, чтобы Господь нас помиловал". А дед-то ей в ответ: "Помилует вас Господь милосердный, помилует, только вы покайтесь, не обижайте народ, будьте и вы милостивы. Поезжайте-ка вы в Почаев, в Лавру, говейте там три дня, потом исповедайтесь и причаститесь; да пусть монахи отслужат обедню заказную с акафистом Богородице, а вы всю ту службу чтоб оба стояли на коленях". Барыня послушалась, подала деду еще такую же монету и сама побежала к барину, а нищий тем часом куда-то исчез. О чем там они говорили, неизвестно, но назавтра барин велел запрягать, и поехали они в Почаев. Молитвы ли чернецов, милость ли Божья, только после того году - великая радость у наших господ: послал им Бог дочку, и окрестили они ее Анной. Того дня, когда ее крестили, созвал барин своих управителей, писарей и всех присмотрщиков и сказал им: "Смотрите, чтобы во всех моих имениях нигде следа не было ни палки, ни плети. Кто из вас посмеет ударить кого-нибудь из людей моих - лишится места! Кому сделано какое притеснение, обида, - за все наградить; у кого какая скотина, вол или лошадь испорчена или пала на барщинной работе - выдать из моих голову за голову. Посадским пастбище прирезать обратно". И растет их девочка, растет - не ребенок, а настоящий ангел: так хороша собой, что кажется, весь свет исходи, другой такой нигде не сыщешь. Подходит уж пятый год, на котором все старшие их детки померли, - господа от забот не знают покоя ни днем, ни ночью: все холят да нежат ее, да берегут, чтобы как-нибудь холодный ветерок на нее не подул, чтобы дурной глаз на нее не глянул. На пятом году везут они ее в Почаев, читают там над ней молитву и Евангелие, и что кто ни укажет - молитву ли какую читать, жертву ли куда принести, все то охотно делают. Господь их помиловал: девочке - шестой годок, а она растет себе, красуется, на радость родителям, что маков цвет, - такой красавицы, говорю тебе, ни до того, ни после у нас не видывали. Но еще краше была ее душенька. Бывало, всякий день идет к обедне в свой костел, а по русским праздникам - в нашу церковь, стоит там по-нашему, степенно и со страхом, как сейчас вижу ее перед собой, сердечную! - и молится горячо и с умилением; а по окончании службы раздает нищим деньги и всем вдовым, больным, убогим, всем, кто не в силах сам работать и кормиться. Велит приходить в усадьбу за мукой, за крупой, салом и всяким добром. Зато у нас на посаде все про нее, про барышню Анну, только и говорили, как про настоящего ангела-хранителя и утешителя. И выросла девица прекрасная, и со всех сторон стали наезжать к ней женихи: тот богат, этот еще богаче; один красавец, другой - еще лучше; но никто не пришелся ей по сердцу. Она все лишь читает святые книги, все только молится да творит добрые, милосердные дела. Раз приехал к ней свататься какой-то граф, а она оставила гостей, кликнула свою горничную девушку и пошла с нею на похороны старой нищенки, которой сама сшила похоронную рубашку. Много бы слишком пришлось говорить, сынок, ежели бы все про нее рассказывать. Одно скажу: такие люди не родятся всякий год, а разве лишь одна такая чистая, да святая придет в мир во сто лет или еще реже. В нашем посаде она всех знала от старого до самого малого, а ума была такого, что старые ученые люди ей дивились. Были тут у нас два брата, что между собою чуть ли не десять годов судились. Мирили их соседи, мирил священник, мирил благочинный, наехав смотреть церковь, - все напрасно: всякое доброе слово отскакивало от них, как горох от стены. А барышня Анна их помирила: они разделились землей полюбовно и стали жить побратски, в любви да совете. Где видал кто когда-нибудь такую барышню? Да и точно: не обыкновенная она была барышня, а прямо сказать ангел, настоящий ангел! Старые господа все ей позволяли, да и не в силах были в чем-либо ей поперечить. Только посмотрит она, бывало, ласково на маменьку с тятенькой, - они уж и смолкают. Теперь я должен рассказать тебе про человека, который один только был до того нелюб барышне Анне, что она видеть его не могла. Это был управляющий старого пана и звали его Гусаковский. Родом он был наш же русский мужик лапотный и прозывался Гусак, но так как с малых лет отличался проворством да сметливостью, то выучился у дьячка грамоте, потом попал во Львов, поступил там в ученье к портному, получил права мастера, прозвался Гусаковским, переменил русскую веру на польскую и задумал стать паном. Когда поднялся в 1831 году польский мятеж в Варшаве, побежал и он воевать, и там сделали его каким-то начальником. А когда русские разбили польское войско, он захватил денежный полковой ящик, бежал с ним и очутился у нас. Деньги эти он гдето зарыл, игла и наперсток стали уж ему еще больше не по вкусу, он старался всячески втереться в службу к нашему барину - и таки втерся. А был он, надо тебе сказать, очень хитрый и льстивый, говорил так гладко и сладко, что все считали его отличнейшим человеком! Поступил он писарем, потом сделался управителем, потом управляющим. Деньги, какие у него были, раздал панам да жидам под лихвенные проценты, а вдобавок так умел исправлять свою должность, что помещик, которого он обкрадывал самым бессовестным образом, считал его своим преданнейшим слугою. Подделывался он и к барышне Анне, чтобы у ней тоже быть в милости, но она всегда терпеть его не могла и не пускала к себе на глаза. Анне минуло восемнадцать лет, и была она всегда здорова и весела, точно молоденькая серночка. ... В Великую Пятницу, когда мы собирались к плащанице, стали в народе говорить, что барышня Анна разболелась. На другой день коляска за коляской скачут к нам в усадьбу доктора из Львова: пробыли у нас несколько дней, думали, гадали и разъехались, сказав, что такой болезни никто никогда не видывал. Плакал народ на всем посаде из конца в конец, и не было человека, кто бы горячо об ней не молился даже жиды молились. А болезнь ее, точно, была особенная, невиданная. С утра говорит со всеми, ни на какую боль не жалуется, только лицом побледнела, да так стала слаба, что руки не могла поднять. А как двенадцать часов пробило, в полдень, значит, закроет глаза и лежит, как мертвая, губами только шевелит, и все говорит, говорит, говорит! И таково чудно, милый мой, говорила, такие все слова, что я сам никогда бы не поверил, ежели бы своими ушами не услыхал. Всякого наставляла, учила, и никто не мог удержаться от слез. Старые господа оба заболели: при ней находились только ее верная старшая горничная девушка да другие слуги, а народ валил к ней, будто смотреть на какое диво. Одного только Гусаковского не велела пускать к себе, и когда тот подошел раз из любопытства к двери, чтобы подслушать, что она говорит, она застонала. Когда мы спросили, что с нею, она отвечала: "Там за дверьми - Гусаковский: скажите ему, чтобы ушел прочь. Он - душа темная и нечистая, я не могу выносить его". Мы приотворили дверь, смотрим - и вправду Гусаковский, и сказали ему, чтобы сюда больше не показывался. Он расхохотался и ушел с гневом, а мы вернулись в горницу, видим: она снова утихла, лежит, как покойница, бледная-пребледная, руки скрещены на груди, глаза закрыты. Много говорила она о Идущей жизни и о том, как следует жить на этом свете. О, кто в силах рассказать, что мы слышали! От ее слов самый закоснелый и жестокосердный грешник не мог не плакать, как дитя, один только над всем смеялся - Гусаковский. На четвертый день к вечеру больная сказала, что скоро душа ее совсем отрешится от тела, и тихо заснула. Когда проснулась, подозвала нашего батюшку и поцеловала у него руку, поцеловала потом верную свою подругу и неотступную сиделку в болезни - старшую горничную девушку Марью, велела обнять и поцеловать за нее отца и матушку, утешить их и попросить, чтоб не плакала, но они лежали оба больные без памяти, и врачи никого к ним не допускали. Велела созвать всех дворовых людей, благодарила их за услуги, со всеми попрощалась и всякого благословила. Тут поднялся плач безмерный: все рыдали, у меня у самого слезы лились в три ручья, потому что никогда такой кончины я не видел. Когда часы показывали семь, больная глубоко вздохнула, и душа ее оставила прекрасное земное ее тело. Никогда не видел я такого прекрасного ангельского лица, никогда не замечал у покойника такой светлой и радостной улыбки, как у нашей барышни Анны, когда одели ее в бело платье, положили в гроб и всю ее усыпали цветами... И вспоминать тяжко... Но мы должны возвратиться к нашей волшебной траве к премудрости. Когда сказали нашему барину, что Анна испустила дух, он расхохотался и на весь двор запел по-петушиному: "Ку-каре-ку!" Это имело свое значение. В прежние годы, если крестьяне приходили на работу после восхода солнца, он их строго наказывал и приказывал петь по-петушиному, и не засчитывал этот день... Со смерти дочери никто уж больше не слыхал от него ни единого слова: как только с ним, бывало, заговорят, он сейчас за свое: "Кука-ре-ку!" Доктора и кровь пускали, и растирали разными мазями, и поили всякими лекарствами, - ничто не помогло! Сидит, бывало, по целым часам задумавшись, точно каменный, потом вдруг вскочит, подбежит к окну, да во весь голос: "Ку-ка-ре-ку!" Совсем с ума сошел. На похоронах Анны народу было великое множество - со всех сел, и господ наехало издалека, и все плакали, потому что все лишились в ней земного ангела. Такого ангела Бог послал грешному человеку, нашему барину, чтобы он покаялся в своей лютости и жадности. А барыня через три недели пошла за Анной, и обе теперь почивают в одной могилке... Барин прокукарекал у нас еще год, потом Гусаковский увез его лечиться на воды, куда-то в Неметчину, - там он и помер. Гусаковский захватил его духовную, где была запись на церковь, что покойник обещался построить у нас, похитил его шкатулку с деньгами и стал богатым паном. Имение продали, деньги отправили какому-то свояку покойника в Польшу, а у нас стал помещиком теперешний барин. Гусаковский мог бы купить себе богатейшее село с крестьянами, да он был простого роду, а в ту пору такие имения дозволялось у нас покупать только дворянам. Потому он приобрел казенный участок в посаде и стал скупать земли у наших посадских. Помогали ему в этом один еврей и пьяница мещанин: они ходили по дворам с водкой, спаивали народ и выманивали земли. Таким порядком завел Гусаковский на казенном участке богатейшую усадьбу, постройки такие, что подобных никогда не видали во всей округе! Из посадских земель составил пашни и сенокосы и зажил настоящим помещиком, по-барски! Случилось на беду, что меж теми землями, что он выманивал у посадских, находился домик покойного учителя Леоновича, где проживала вдова его с детьми - сиротами. Гусаковский решил во что бы то ни стало завладеть и этим домиком, а вдова и слышать не хотела о продаже: он был для нее бесценным, как память о покойном муже, который сам построил домик и развел при нем небольшой сад, своими руками сажая и прививая каждое деревце, и она не уступила бы никому ни за какие миллионы. Гусаковский подговорил своих батраков делать ей всякие пакости и притом уверил их, что им нечего бояться: я, мол, дружен с нашим судьей и всегда смогу избавить вас от наказания, коли она пожалуется. Начался вдруг настоящий разбой: в саду попереломали деревья, растащили забор. Гусаковский поил их за это водкой, а наиболее злобных награждал даже деньгами. Дошло до того, что она со слезами принуждена была отказаться и от земли, и от домика, продала их Гусаковскому, а сама с сиротами поселилась в наемной избе на краю посада. Тогда Гусаковский протянул ограду своего двора дальше, воздвиг новые строения и еще пуще залютовал. Посмотрел бы ты какие у него были конюшни, какой дом, как в комнатах все сияло серебром и золотом... Но по порядку. Построился у нас Гусаковский, как сказано, на удивленье и стал жить да поживать по-барски, широко. Ни о ком столько ни говорили, как о нем, никому столько не завидовали. Кроме большого богатства, была у него и жена-красавица, и деток трое, что твои цветики, один другого лучше; в усадьбе у них, бывало, съезд никогда не прекращался: гости, веселье, обеды, ужины, музыканты гремят, смех, говор, шум! И говорили завистливые соседи: "Враки, будто неправедное добро впрок нейдет! Смотрите на Гусаковского: каково поживает! И ничего он не боится: от пожара застраховался, от градобития застраховался, все у него верно, все безопасно!" Да... От одного только - от гнева Божия не застраховался!.. Родила ему жена четвертого ребенка, справили богатые крестины, гостей наехало в усадьбу, может, с сотню упряжек. И кто мог бы подумать, что из малости выйдет такая беда, что в три года лишит Гусаковского всего, что он имел, и сделает его жальче нищего. Дело было так: жене его, когда она отдыхала после родов, вдруг до смерти захотелось водки. Дали одну рюмку, дали другую, - да как и не дать, когда просит чуть не со слезами? Настроение тут у всех хорошее... Так угощали ее один день, другой... На третий - снова. И - незаметно, незаметно, но не больше как в две недели так пристрастилась она к водке да к рому, что меньше полуштофа и не показывай. Да ежели бы еще одна пила, - но у пьяниц такой уж нрав, что им подавай непременно компанию. Составилась и компания, сначала из таких же, как сама она, - из дворян, потом из мещанок, и, наконец, из всяких, кто ни подвернется под руку. Муж отправится по хозяйству в поле или уедет куда-нибудь, а она сейчас созовет свою компанию - и пошло пьянство на весь день. Вернется он домой - жена лежит пьяная, без памяти, и в доме уже стали недосчитываться то того, то другого. Дальше - больше: стал он прятать да запирать от нее деньги, а она потащила из дому все, что попадется: золотые и серебряные вещи и всякое иное добро стало уходить в заклад на водку Она не довольствовалась уже пьянством дома, а стала шататься по кабакам, плясала там с лакеями да с солдатами, угощала всех встречных и поперечных. А он, муж-то, каков ни был сердитый да злой человек, имел к ней такую любовь, что не в силах был поднять на нее руки иль обидеть ее каким-либо грубым словом, а только все ухаживал за ней, да берег ее всячески. Раз захотелось ей водки до смерти, а он запер все на замки да запоры, забрал ключи и уехал. Так что же она делает со злости, окаянная? Берет головешку и поджигает собственную усадьбу! До чего доводит водка! Недаром говорят, что лукавый ее выдумал! Гусаковский был в отлучке, дворовые даже видели, как она поджигала, но когда прибежали - спасенья уже не было: поднялся ветер, пожар истребил все дотла. Усадьба была застрахована, но страховое общество говорит: твоя жена сама подожгла, ничего не дадим. Пропало дело! Осталась одна земля, деньги, какие были, ушли на новое строительство, а она по-прежнему все тащила из дому, не бросая своего нрава. Через год, едва окончили стройку, опять пожар, неведомо с чего и откуда, - и снова все сгорело. Упал духом Гусаковский, с горя принялся тоже за чарку, и стали они пить вместе. Дети все поумирали - болезнь за болезнью на них, прямо напасть какая-то... Гусаковский с женою переселились на посад и пошли туг пьянствовать без просыпу, не зная никакого другого дела. Была еще земля, евреи давали водку за землю; наконец, землю приказано было продать с молотка, а так как в то время официально продавать земли евреям было запрещено, то мы: я, твой отец и другие соседи - явились на торги, купили землю в складчину и разделили ее между собою по паям. Теперь у меня сорок десятин, у тебя пятнадцать, остальные же покупали по две да по три десятины, кто сколько мог. А Гусаковский с женой дошли до сумы, не раз попрошайничали и у нас, и мы тоже подавали. Он умер прежде, но и она прожила без него недолго. Похоронить ее было не на что, я же сам еще и доски на гроб давал... Из этого видишь, что ум бывает разный. Бывает ум истинный, и тот говорит нам, что неправедное добро - не есть добро; а такой ум, что хорош на обиду ближнего на плутовство да обман, - не настоящий ум, неистинный, потому что раньше или позже непременно доводит человека до беды, до гибели. А неправедно нажитое имение, такое, на котором тяготеют людские слезы, рассыпается прахом и исчезает. Достаток должен иметь чистую совесть и светлое лицо пред Богом и людьми, и вот в чем истинный ум, или премудрость: достаток наживай только праведно, а неправедного достатка не желай никогда (выделено мною Б.В.П.). Чтобы узнал, сынок, как добро наживать, я рассажу тебе нашу историю, - расскажу о том, как Бог помог нам самим добиться достатка. Покойный дед мой был человек очень бедный: не было у него ни клочочка своей земли, не было ни огорода, ни избы, и служил он помощником дьячка. Ты сам знаешь, что нет в мире создания беднее дьячка. Та мышка, что живет в поле, в хлебном скирде или на гумне, не только кушает досыта, но из шалости часто даже портит снопы пшенички и гречи. А у той, что в церкви, нет ничего, разве упадет крошка от ковриги хлеба, принесенной богомольцем к заказной панихиде, оттого-то церковные мыши так тощи и наши дьячки так бедны, а про помощников и говорить нечего. Каковы в самом деле дьячковские доходы? Дедушка рассказывал, что терпел и бедствовал он немало, да беду свою топил не в чарке, а в молитве, в Псалтыри, да в труде. У дедушки такой уж был нрав, что часу одного он не мог пробыть без дела, - Боже упаси! Леность дедушка считал за самый большой грех, и в старости, когда уже по милости Божьей, у него было все, чего только душа пожелает, до последнего часа не мог быть без работы; хотя уж ослаб силами и плохо видел, да и отец мой запрещал ему утомлять себя работой, но он не мог удержаться, плакал, когда прятали от него инструменты, и трудился до самой кончины. А вот что он рассказывал про жизнь свою. Дедушке не было еще восемнадцати лет, когда из помощника, по смерти старого дьячка, стал он на клиросе настоящим дьячком. Дедушка был не из мещанского рода, а из простого крестьянского: отец его был крепостным и ходил на барщину. Когда помещик проведал, что дедушка устроился дьячком, наехали его служители, ворвались ночью в дом, связали дедушку и, как душегубца какого, повели через все село в барскую усадьбу Пан видит, что парень красивый, статный, - велел его развязать и взял в хоромы лакеем. Тогда у крестьянина своей воли не было, чего пан хотел, то с ним и делал. Но то, что дедушке моему казалось сначала большою бедою, вышло ему на счастье. В то время усадьба совсем заново перестраивалась, - в хоромах повсюду вставляли новые двери, окна, делали новые полы. Пан уехал куда-то далеко, и дедушка получил от него приказ присматривать за работами по дому. И вот он не только досмотрел, чтобы все было сделано как следует, но от мастеров тех и сам выучился всякой работе. Встанет, бывало, до свету и давай пилить, строгать, сверлить за столярным верстаком. Мастера видят, что у него большая способность и охота ко всякому делу, - стали ему показывать, а ему того только и нужно было: в одно лето дедушка выучился столярному, токарному и малярному мастерствам и стал работать как самый лучший, что ни есть, мастер. К осени вернулся барин, осмотрел все и говорит: "Хорошо ты у меня присматривал, все сделал чисто и прочно, проси себе за это подарок какой хочешь". А дедушка в ответ: "Никакого подарка я не желаю, позвольте мне только работать по утрам в мастерской: я буду делать все, что потребуется вам по дому". Пан согласился и подарил ему столярный верстак со всеми инструментами. Два года этак он трудился, и мастера лучше дедушки в это время не было уже во всем округе. Веялку ли для хлеба было нужно сделать, домашнюю ли утварь какую, скрипку ли для музыканта, ведро, кадушку ли, за что он ни принимался, все выходило из его рук так прочно да чисто сделанное, что любо-дорого было смотреть. Тем временем занял Галичину нашу австрийский цесарь, крепостное помещичье право было уничтожено, и дедушке стало вольно отойти от пана. Общество наше опять приняло его к себе дьячком, потому что тот, который был после него, сильно пьянствовал и производил такой соблазн, что не было возможности держать его дольше. Сделавшись дьячком, он снял большую избу и принялся за мастерство. Самоучкой он знал еще отлично кузнечную часть, слесарную, колесничество, а потому народ обращался к нему со всех сторон за разными поделками, и тем охотнее, что все, за что ни брался дедушка, он делал, как настоящий мастер. Когда кто, рядясь, находил, что цена слишком большая и жаловался, покойник говаривал: "Меня ты будешь клясть только раз - когда платишь, а потом уж никогда; я вот и хочу, что бы ты уж лучше поругал меня теперь, чем после за недобросовестную работу". Таким способом он в несколько лет нажил достаток и тогда познакомился с бабушкой, за которою отдавалась изба с землей, на том самом месте, где теперь моя усадьба, женился на ней и принялся за хозяйство, но все-таки продолжал заниматься мастерством и не оставлял тоже дьячества. "Мне любо петь Господеви", - говаривал дедушка, объясняя, что остается дьячком не по нужде и не из-за хлеба, а из-за любви ко Господу, которому поют и ласточка, и жаворонок, и соловей, и ангелы на небесах: "Когда я запою в церкви, мне кажется, что я пою вместе с ангелами". И до конца своей жизни, покуда в силах был ходить в церковь, покойный дед постоянно пел и служил Господу в храме. Жизнь его была такова, что стоит в нее вникнуть. Как ходят хорошие часы, ни на одну минуту не отставая и не убегая вперед, так все правильно и мерно шло у него по хозяйству: Вот любимое его наставление детям и всей челяди: "Человек должен подражать Господу Богу. Как Господь Бог беспрестанно творит, как все дела рук его прекрасны и на пользу, как Он все измерил по часам и минутам, так и человек должен постоянно и усердно трудиться, смотреть на часы и по ним располагать свою работу". Бывало, ровно в четыре часа, как зимой, так и летом, встает он сам, а за ним - дети и челядь. Каждому назначалась с вечера работа на завтрашний день. Вставши и чисто умывшись, все молились вместе, а потом уже всякий шел к своей работе: кто в поле, кто на гумно, кто в мастерскую. Как в хозяйстве, так и по мастерству все у него было отлично устроено и сложено и все двигалось правильно, точно колесики в часах. У него никто не смел сказать неприличного, дурного слова или поссориться с другим или оскорбить когонибудь. Сам он, хоть и был горячего нрава и строг, никогда не бил челяди и не наказывал, а все только учил, как лучше что сделать, и добрым словом внушал провинившемуся вперед быть исправнее. Когда кто худо что-нибудь делал или ленился, или пакостную шалость какую учинял, он призывал того к себе и с глазу на глаз его учил и наставлял, но при этом никогда не показывал ни досады, ни гнева. Оттого челядь у него была всегда усердная и прогневать его боялась пуще палки. А кто внушению не поддавался да еще и других портил, тому он сейчас расчет в руки, - и ступай себе с Богом. И не только никогда не бил никого и не наказывал, а, напротив, стоящего любил похвалить и наградить. Придет, бывало, на конюшню, увидит, что лошади исправно вычесаны, вычищены, грязь с возов смыта, сбруя как следует смазана, или в поле, - пашню хорошо вспаханную, скирд или стожок тщательно сложенный, - сейчас зовет других и говорит: "Смотрите, как у него все исправно, как хорошо! Люблю я такую работу. Из тебя, брат, хороший выйдет человек и дельный работник, и вот за то, что ты меня порадовал, дарю тебе...", - и награждал деньгами или подарком. Оттого в работниках никогда у него недостатка не было, и нам он часто повторял: "Люди без ума не умеют обращаться с челядью. Слуга - не раб, а помощник мой и друг, такой же человек, как и я, и я должен быть ему отцом и наставником, потому что Бог вверил его моему попечению. Не ругань, не побои, не бранные и унизительные прозвища удерживают челядь в верности, но любовь, ласковое слово и награда". И это было мудрое правило. Каждый работник получал у него в назначенный час здоровую и вкусную пищу, кто служил за одежу - хорошо сшитую и прочную одежу, кто за жалованье - в условленное время добросовестный расчет. А если случалось, что кто женился или девушка шла замуж, дед справлял сверх всего свадьбу и давал приданое. "Ты на меня, - сказывает, бывало, столько лет уж проработал, благослови тебя Бог завести и свое хозяйство, - я помогу тебе от души". И так нас учил: "Смотрите, я из ничего, одним лишь трудом да сметливостью, добился верного куска хлеба. Отчего народ наш беден? Оттого, что у нас как стал человек земледельцем, так он уж ничего пред собой не видит, кроме своего куска земли. Уродит землица, - есть хлебушек, не уродит, - бедствует, потому что в руках не имеет никакого другого способа зарабатывать пропитание. А у еврея хоть и нет земли, и однако же, у каждого - деньги! Отчего? Оттого, что всякий еврей грамотен и имеет какой-нибудь промысел. Что же мы не знаем никаких промыслов? Что же мы ждем, пока еврей привезет нам соли в деревню, когда мы сами могли бы купить ее и привезти и взять себе заработок? Отчего у нас крестьянин, у которого трое или четверо сыновей и есть достаток, не отдаст одного или двух в высшие школы? Пусть бы один готовился быть чиновником или священником, или учителем, второй пусть бы учился какому-нибудь ремеслу, третий - другому: земля велика, - с знанием, да с полезным умением, коли не найдешь себе занятия здесь, так получишь его на краю света. Смотрите на меня: выучился я мастерству, и вот теперь получаю хорошие барыши изо дня в день, а дел у меня столько, что подчас не принимаю заказов, потому что не в силах справить все как следует. Хорошего мастерового, в каком бы захолустье он ни жил, люди сами найдут и дадут ему заработать. Не знай я мастерства, - чтоб я имел? Бедствовал бы, как и все дьячки наши бедствуют. Теперь же от пашни и мастерства имею хлеб насущный, а дьячеством служу Богу и православным христианам". Потому он постоянно, бывало, твердит: "Дети, учитесь! Прежде всего учитесь грамоте, потому что без грамоты будете темные и слепые. А потом учитесь: кто может высшей науке тот высшей, а у кого нет на то ни головы, ни способов, - какомунибудь полезному ремеслу Не полагайтесь на одну пашню: придет время, когда пашня будет не в силах всех прокормить". И в самом деле, к тому нынче идет. Народу, Бог дал, прибавилось, а земли не прибавляется: напротив, везде ее стало меньше - чего не отхватили паны-помещики, то выманивают "подпанки" и евреи. Где прежде сидел один хозяин, там нынче их четверо, а то и больше... Лет каких-нибудь через двадцать бедность у нас будет страшная, оттого что мы все на одну только землю оглядываемся. В нашем роде, милый внучок, так не делали. Вот я, к примеру, тоже трех сыновей своих выучил и вывел в люди. Нынче из пяти сынов моих один - чиновник, один - капитан в войске, один - каретник, один - женатый хозяйничает на стороне, но знает кузнечное ремесло, и один остается хозяином на моем месте, на отцовской нашей земле, но обучен на всякий случай плотницкому и столярному мастерству, Да, великая мудрость и благо нашего народа в том еще, мой милый, заключается, чтобы мы отнюдь не полагались на одну лишь землицу. Что я от деда своего перенял и от родителя, да что сам дознал опытом на всем долгом веку своем, то и тебе передаю, дорогой мой.