Во что я верую
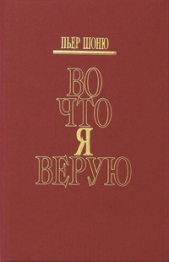
Во что я верую читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каждая живая клетка — это сказочно сложный, замкнутый и обороняющийся мир. Мы представляем собой совокупность тридцати миллиардов (или больше) постоянно обновляющихся клеток, с бою добывающих нам жизнь у окружающей среды. Мы — это сознание нашего бытия, отражающее, начиная с какой-то точки в пространстве-времени, частицу мироздания с тем, чтобы попытаться сформулировать воспоминания. «Я» — в плену у индивидуальности; любить — значит разбить оковы, вырваться из тюрьмы, которую я сам себе сооружаю. Французский язык Средневековья настойчиво описывает «друзей во плоти». В Библии говорится: «кость от костей моих, плоть от плоти моей», «и будут плотью единой».
Ребенок — плоть от плоти моей. Кормилица извлекает пищу из себя, плотский контакт в половом акте — это контакт эпидерм, проникновение плоти. Но если весь этот контакт присутствует у животных (млекопитающих), он является всего-навсего точкой отсчета, педагогическим упражнением у человека.
В своем классическом труде «Элементарные структуры родства» [XXXVI] Клод Леви-Стросс [96] пишет: «Человек — это кровосмешение». Во всех человеческих обществах наличествует признание и осуждение кровосмешения. Жак Рюффье [XXXVII] даже усмотрел в общественном осуждении кровосмешения одну из причин объединения рода человеческого. Ибо подлинное кровосмешение произошло между Лотом и его дочерями, между отцом и его дочерями. Считается, что резко выраженные мутанты «до-истории», совокупляясь с женщинами своего племени, ускорили продвижение в сторону увеличения объема мозга. Пускай ответственность за это замечание ляжет на антропологов, исследующих наши отдаленные истоки. Сам я, напротив, вполне заодно с Клодом Леви-Стросеом и с тем, что он пишет о кровосмешении.
Полное кровосмешение — отцовское. Невзирая на Эдипа, жертву злосчастного стечения обстоятельств, кровосмешение между сыном и матерью менее вероятно. Если отвлечься от развитого человечества, создается впечатление, что у некоторых видов — в частности, у обезьян — уже существует преграда, возбраняющая сношения между матерью и ее взрослыми детенышами.
Признание факта отцовского кровосмешения предполагает наличие множества условий, выступающих как множество шагов вперед. Совокупляющаяся чета должна быть устойчивой, а отец включен в процесс продления рода. Требуется длительное совместное проживание; оно необходимо для перепрограммирования приобретенных культурных навыков и для работы культурной памяти — памяти чисто человеческой. Ведь ничто из приобретенного нами в ходе нашей жизни не в силах перешагнуть так называемый вейсмановский порог [97]. То, что откладывается в нашем мозгу за счет этих приобретений, по-видимому, не переходит от 46-хромосомных клеток к зачаточным клеткам, состоящим из 23 хромосом. Вот почему большую часть жизни мы используем для заучивания и обучения, что очевидным образом предполагает постоянное пребывание супружеской четы возле очага. Отцовство — первое приобретение человечества. Но оно осуществляется через женщину. До того как полюбить ребенка, отец любит ребенка любимой им женщины. Еще до того как стать плотью от плоти его, ребенок есть плоть этой женщины, Евы, о которой, согласно тексту книги Бытия, Адам говорит, что она есть «кость от костей моих» и «плоть от плоти моей».
Устойчивая супружеская семья, семья, основанная на браке, есть доподлинно естественный образец. В случае человека «естественный» всегда означает «культурный». И так как культурное начало недолговечно, то есть не может неоднократно преодолевать преграду в виде смерти путем противоречащего природе воспроизведения программы, то весь культурный «набор» никогда не выходит надолго за пределы естественного. Потребовалась вся роскошная пышность периода, последовавшего за неолитом, чтобы в чем-то не схожие системы смогли стать частью временной протяженности. Это относится к полигамии среди пастушеских лидеров и владык древнего Китая.
В результате полигамии, которая, в силу преобладания особей мужского пола при рождении (106 мужских особей на 100 женских [98]), может обеспечить выход из положения лишь в чрезвычайно ограниченном числе случаев, намечается ведущее место в обществе расширенной семьи — genos, gens. Возможная опасность насилия не столь велика между «друзьями во плоти», между теми, у кого сильнее звучит не ненависть из-за соперничества, а дружба, порождаемая общностью крови и по меньшей мере в такой же степени совместным проживанием детей в расширенных фратриях. Внутривидовому насилию нелегко сплошь и рядом проникать за охранительную ограду семьи — даже тогда, когда она расширенная. Зато уж если в ней поселилась ненависть, то, без всякого сомнения, она принимает окраску и размах, символом которых, с точки зрения окраски и размаха, стали Атриды. Но если любая великая литература с тяжеловесной настойчивостью описывает крупномасштабные проявления ненависти, сопоставимые с любовью, по отношению к которой они выглядят как негатив и индикатор, — то именно оттого, что с выражением средствами искусства этих опасных уклонений от нормы связываются надежды на то, что оно сыграет роль катарсиса, необходимого для дальнейшего существования общества.
Расширенная семья — поистине древнейшая ячейка общества. Это — клан, genos, gens; что до citй [99] древности, то это, первоначально, союз, конгломерат племен — genoi, gentes. Ho мир, в котором мы жили, — бесконечно опаснее того, в котором мы пребываем ныне. Круг «друзей во плоти» — это первый охранный круг, он дает жизнь, охраняет ее от враждебности природной среды и межчеловеческого, внутривидового насилия, сохраняет и передает сугубо личное содержание, отличное от общечеловеческой культурной памяти, завершающей наше становление в качестве людей в ту долгую пору, следующую за нашим рождением, когда наше существо еще поддается лепке.
Разумеется, мир эмоциональных привязанностей не сосредотачивается исключительно внутри ядерной или расширенной семьи; остаются товарищества, складывающиеся ради охоты, войны или труда. А какова доля таких проявлений за пределами этих двух кругов в рамках 300 миллиардов человеческих судеб пространства-времени? В этих кругах содержится более трех четвертей любви, которую вмещают наши израненные сердца. И во всем, что происходит за пределами этих кругов, в ходу — язык нежности, сложившийся в семейном ядре. О легионере скажут, что легион — его семья. В числе расширенных применений, говорящих о таком смысле, Литтре отмечает: единообразие, связанное с метрической системой, которое «приводит к образованию одной огромной семьи этих различных народов» (Лаплас), «великую человеческую семью, совокупность людей, все человечество». И о том же гласит братство на фронтоне Республики. Стоит нам воскресить в памяти пространство мира, теплоты, нежности, как в ней всплывают все те же слова, все тот же образ. Уроки, вытекающие из истории народонаселения, основанной на применении количественного метода в истории, говорят о том, что такая мудрость характерна для всех народов. И если когда-нибудь найдутся дураки, которые станут твердить вам об обратном, то знайте, во всяком случае, что это — круглые дураки.
* * *
В ходе истории семейная модель, вполне очевидным образом, частенько менялась. Ее формы изменчивы — как и сама жизнь. Всё зависит от Сириуса. Его колебания едва уловимы. Приметны лишь общее положение и направление. С близко расположенной от него планеты вам будет видно, насколько всё обстоит иначе.
Конечно, между XII–XIII веками, этим великим переломом во всей нашей истории, и XIX веком место и значение узкосемейной ячейки-ядра непрерывно росло [XXXVIII]. Усиление роли крестьянства, возделывающего парцеллы, определяющего ход своих дел в своих микроскопических масштабах, — а также более действенная зашита, предоставляемая государством, привели к тому, что расширенная семья стала сводиться к семье-ядру. Со сменой поколений маленькая ячейка стала понемногу вбирать в себя всё большую часть эмоциональности. Между тем, промышленная революция приводит, как зорко увидел Питер Ласлетт [XXXIX], к определенному откату. За вычетом привилегированного меньшинства, к которому, из-за некоторых своих занятий, принадлежу и я, эта революция нарушила единство места, семьи и производственного предприятия. Для лондонского хлебопека, о котором Питер Ласлетт говорит в начале «Утраченного нами мира», для виноделов и крестьян, сидящих на своих парцеллах, в рамках обоих направлений моих родных по восходящей линии, трудившихся на виноградниках, сеявших рожь и собиравших каштаны, как для домашнего врача в XIX веке и литератора, — привилегированность, впрочем, обоюдоострая, заключалась в том, что они работали у себя дома. Это единство места, прерванное технологией больших, пыхтящих и источавших влагу машин, вызванных к жизни промышленной революцией, может оказаться — стоит нам только захотеть — вновь к нашим услугам, к услугам нашей технологии. Важно сделать так, чтобы расчлененный производственный процесс вернулся вспять, к нашему домашнему очагу, то есть к месту нашего покоя и счастья.


























