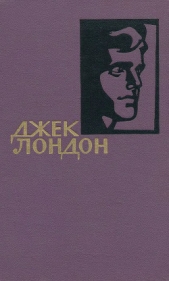Тайна святых

Тайна святых читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но историки не только не поняли этого, они даже не замечали подлинной жизни Русской земли - они видели только княжеские междоусобицы.
По словам историка Ключeвского, выразившего общую мысль историков обо всем киевском периоде, “тог да было много неурядиц, много бестолковой толкотни, бесчисленные драки княжеские”, - в этом и заключается главный мотив тогдашней жизни, по его мнению. Ученая история, пользуясь тысячелетней давностью перспективы, суживает время и то, что происходило только во второй половине XII столетия, относит ко всему времени после Ярослава Мудрого. Фактически она делает это так: заполняет все пропущенные ею сто лет подлинной жизни Русской земли искусственным изложением непрерывной будто бы борьбы двух княжеских родов, потомков сыновей Ярослава Мудрого Святослава и Всеволода (Ольговичи и Мономаховичи), причем один род делает злым вдохновителем всех междоусобий*.
* Но мы видели, кто был вдохновителем междоусобицы, когда она по-настоящему (т.е. безысходно) началась (Изяслав Мономахович).
На самом деле в течение ста лет это столкновение имело место только в течение трех-четырех лет и кончилось чудом преображения мрачного от несправедливости, выпавшей на его долю, Олега. Но эти годы (три-четыре) можно считать в жизни всего периода как бы искуплением за обиду одного брата, и эти три года несли глубокое просветляющее последствие не для одного Олега (см. письмо Владимира Мономаха к Олегу).
Заполняя сто лет почти не существующими тогда усобицами, историки все время скорбят, что у князей Русской земли не было государственного инстинкта, как эти историки его понимают. Для этого необходимо проявление одной воли (или силы), подчиняющей себе все остальные воли. Изяслав действовал во имя свое, не имея решительно никакой цели государственной, однако характер его действий, его сила, именно такого рода, какая необходима для строения настоящего государства. Он был предшественником в духе Андрея Боголюбского, которого история считает зачинателем строения крепкого единодержавного царства. (Быть может, за это и канонизировала его церковь времен Иосифа Волоцкого и его учеников, променявших церковь и Христа на государство и царя). Своей “силой” Изяслав Мстиславович вызывает симпатию историков к себе и антипатию к князьям противоположного ему духа. Его сила, как еще нечто несознанное, как некий еще зарытый в землю клад, но именно та, какая нужна в их томлении по государству. Изяслав был их утешением среди всеобщей “слабости” характеров.
Чтобы яснее выразить нашу мысль, обратим внимание на нечто, происшедшее с историком Ключевским. Однажды, при изображении им киевского периода, Ангел русского народа-церкви коснулся его своим крылом и в сердце историка возникло беспокойство. Он задал себе вопрос и захотел непременно ответить на него: “Почему народ русский доселе помнит старый Киев, непритворно любит его и чтит, как не любил и не чтил ни одной из столиц, его сменивших, ни Владимира на Клязьме, ни Москвы, ни Петербурга?” Удивляясь этому, по его мнению, странному явлению, Ключевский старается отыскать причину. Однако все его предположения доказывают только, что причины любви русского народа к древнему Киеву найти он не в состоянии. Ибо он, как и все его ученые собратья, не знали, чем жива была Русская земля.
Первое предположение Ключевского, что “на поверхности общества было тогда много движения, а люди вообще неравнодушны к временам, исполненным чувства и движения”, автор называет эстетическим удовольствием поздних наблюдателей. При чем же тут народная любовь к Киеву?
Второе его предположение: “Русская земля, механически сцепленная первыми киевскими князьями из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое, теперь, теряя эту политическую цельность (при междоусобиях), впервые начала чувствовать себя цельным народным или земским составом”. “Историческая эпоха, когда народ почувствовал себя чем-то цельным, всегда особенно глубоко врезывается в народной памяти”. Если эта мысль о своем земском единстве возникла у тогдашнего народа вследствие княжеских междоусобиц, когда “общество все яснее видело, что ему самому приходится искать выхода из затруднений” и поэтому “киевлянин все чаще думал о черниговце, а черниговец о новгородце”, - то неужели русский народ доселе, именно за эту тогдашнюю умственную политику, “помнит, любит и чтит Киев”?
Продолжая далее искать, что же именно единило русских людей в киевский период, Ключевский останавливается на именовании тогдашней России Русской землей и хочет отсюда сделать соответствующий вывод.
Что-то как бы осенило его, и он припоминает, как игумен Даниил - паломник из Черниговской Земли (земли наиболее обособленной, замечает автор) ставил на гробе Господнем в Иерусалиме лампаду от всей Русской земли, “за всех князей и за всех христиан Русской земли”. Но не делая отсюда никакого вывода, Ключевский тотчас отклоняется в сторону и вспоминает, что “Слово о Полку Игореве” тоже проникнуто живым, общеземским чувством. Хотя: “черниговцы, но, разбитые, - они ложатся за землю Русскую, тоска разливается по всей Русской земле”.
И вот, наконец, Ключевский делает заключение: “Везде Русская земля и ни в одном памятнике не встретишь выражение Русский народ”. Это оттого, что “пробуждавшееся чувство народного единства цеплялось еще за территориальные пределы земли”. Ибо, заключает Ключевский, “территория более доступна пониманию”.
Итак, значит, чувство общей территории рождало чувство единства во всем русском народе. И это один из ответов
Ключевского, за что русский народ доселе помнит, любит к чтит древний Киев и его время. Ключевский бесспорно был очень умный человек, но для того, чтобы говорить о единстве Киевской земли и любви к ней русского народа доселе, необходимо иметь ум Христов. Те высокие понятия, которые для своего простого (всегда простого) изъяснения требуют ум Христов, всякий иной ум, размышляющий о них, разоблачают, как совершеннейшее ничто.
Ключевский немного подтрунивает над летописным взглядом на историю. Но, конечно, тогдашние летописцы знали очень хорошо, что единило в киевское время русский народ. Если они об этом не говорят, то только потому, что это была простая истина, всем известная; дух, который заключен в их летописи, как бы вопиет об этом в каждой мысли и слове.
Единение всех крещеных жителей Русской земли рождалось от духовного сознания себя членами и сынами единой, святой, соборной и апостольской церкви, а друг друга братьями во Христе. Отсюда и обращение князей к народу и на вече народа друг к другу: “братья моя милая”.
И обращение это не было условной ложью: радость единения в эту пору бытия русского народа-церкви шла от самого Господа Иисуса Христа, главы церкви, ибо у жителей Русской земли ничего не было ближе, дороже, роднее церкви. Тогда не существовало единого мощного государства российского, которое также можно любить и чтить. Но ничто так не удаляет от Господа, как наличие иного, кроме церкви, общего чувства единения. Величие, мощь, гроза соседей моего государства - отечества затмевает любовь к церкви, как братскому соединению, и ко Христу, как Единой цели всего на свете. То, что впоследствии выразилось в особом исповедании: “Москва – третий Рим, а четвертому не бывать” - явилось выражением гордости от сознания государства, как некоей самодовлеющей силы и церкви, как православной, отличной от всякой иной и высшей, чем все другие. И знаменателен этот усвоенный с тех пор эпитет “православная” церковь вместо Христова Церковь. Фраза “а четвертому не бывать” свидетельствует о потере надежды на будущее благодатное состояние, предсказанное в “Откровении ап. Иоанна”, надежды, которая сияла в самой жизни Русской земли, любимой Господом, и творимых в ней чудесах.
Да, в Русской земле при полной разобщенности интересов и целей у княжеств и городов (все было особенное у Новгорода, у Киева, у Чернигова, у Суздаля), различии и в привычках и в древних обычаях, разности этнографических вкусов (поляне, древляне, северяне, черемисы и пр.) только одно было общее - свет Христов (“Свет Христов просвещает всех”). И вот русский народ “доселе любит и чтит древний Киев, как не чтил ни Владимира на Клязьме, ни Москвы, ни Петербурга”, ибо в сердце его никогда не угасает воспоминание о том времени, когда русский народ единил только Христос.