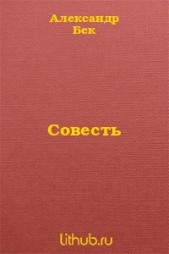Наступление продолжается

Наступление продолжается читать книгу онлайн
…Пройдены многие фронтовые дороги, что ведут на запад. Позади Волга, курские степи, брянские леса. Уже за Днепром, по украинской земле, очищая ее от врага, идут бойцы. С ними, воинами нашей прославленной пехоты, мы встречаемся на страницах этой книги в тяжелом ночном бою среди лесной чащи поздней осенью сорок третьего года где-то западнее Киева и расстаемся солнечным летним утром далеко за пределами родной земли, в горах Трансильвании, где они продолжают победный путь.
Все три повести сборника («Знамя», «На поле Корсуньском», «Здравствуй, товарищ!») как бы продолжают одна другую, хотя каждая из них является самостоятельным произведением, а две последние объединены общими героями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стефан полюбил ее еще до войны, крепким, здоровым и веселым парнем, когда ему было всего девятнадцать и он не хуже других мог отплясывать на деревенских вечеринках под звуки бубна и скрипки. Не было для Стефана девушки краше Флорики не то что в Мэркулешти, а и во всей округе. Да и Флорика улыбалась ему ласково. Прошло совсем немного времени, и они уже решили, что к осени, когда будут убраны кукуруза и виноград, оба попросят у родителей благословения. Но осенью Стефана неожиданно взяли в солдаты: объявили какой-то внеочередной набор. Флорика дала клятву ждать, пока он отслужит свой срок — два года. Не успел Стефан прослужить и несколько месяцев, как началась война с русскими, его полк сразу же отправили на фронт…
Еще в лазарете он старался свыкнуться с мыслью, что теперь нечего и думать о счастье с Флорикой. Не отдадут ее за калеку.
Набравшись мужества, Стефан сказал себе: вместе им все равно не быть. Надо оторвать Флорику от сердца. Но не так-то легко это сделать…
Послышались шаги. Стефан обернулся: к огню вразвалочку подходил русский сержант, Василе.
Федьков вышел взять на повозке махорку, чтобы одарить ею хозяев. Когда увидал Стефана, понуро сидящего у огня, подумал: не обиделся ли на него этот парень? Но какие теперь могут быть между ними обиды?
— Ну, Степа, чего пригорюнился? — весело спросил Федьков, присаживаясь на обрубок бревна рядом.
Стефан чуть улыбнулся и прошептал что-то.
— Не понимаешь, значит? Эх, беда, в языке-то вашем я темноват… Да и ты — у нас побывал, а говорить и мало-мальски не намастачился.
— Русски мало говорить, — проронил Стефан и снова замолк.
Молчал и Федьков, глядя, как снуют по сухим сучьям язычки огня и тяжело булькает в котле.
Багровые блики пламени плясали на их лицах. Желая завязать разговор, Федьков спросил:
— Какого года ты?
Не поняв вопроса, Стефан только виновато улыбнулся в ответ.
— Сколько лет тебе, говорю? — переспросил Федьков. — Доуызэчь ши трей! [20] — ткнул он себя пальцем в грудь, припомнив румынский счет, которому успел немного научиться.
— Доуызэчь ши трей! — обрадованно проговорил Стефан, показывая на себя.
— Ровесники, значит? В один год призывались, в один год подрались…
— Доуызэчь ши трей… — повторил Стефан, и голос его дрогнул. Он показал на свою больную руку: — Плохо. Инвалид.
— Вот чудак! — изумился Федьков. — Какой ты инвалид? Парень молодой, не пропадешь!.. — И вдруг осекся: «Кому здесь нужен однорукий?»
До этой минуты Федьков, проезжая по Румынии, видел только внешние приметы капитализма: вывески частных лавочек и мастерских, лакейскую угодливость перед более сильными. Но только сейчас он своими глазами увидел, как может этот, никогда не изведанный им строй жизни обесплодить душу человека неверием в себя, в будущее.
— Да, жизнь… — Он вытащил из кармана кисет, протянул Стефану. Тот несмело сунул руку в кисет.
— Бери, бери больше!
— Мульцумеск, спасибо, товарищ!
Оба завернули по цигарке.
Сделав несколько затяжек, Федьков спросил:
— На фронт больше не хочешь?
— Ну! — решительно ответил Стефан. — Я плугар. Плугар на плугар — ну разбой.
— То-то. Понял, выходит?
Стефан пояснил: еще раньше понял, когда разговаривал с пленным партизаном.
— Ты что, против партизан воевал? Каратель? — Федьков сурово сдвинул брови.
— Ну, ну, — горячо заговорил Стефан. — Ромын на партизан — ну. Немьц на ромын — «пфуй»! Немьц на партизан!
— Не посылал вас, говоришь, немец на партизан? Не надеялся? Ну, что ж, — Федьков все еще недоверчиво поглядывал на Стефана. — Коли не врешь, значит, правда…
Все-таки трудно было Федькову свыкнуться, что сидит он мирно рядом с одним из тех, с кем недавно бился насмерть. И в сердце точил червячок: «А ведь вот с такими, могло быть, и Клавдия… за барахло какое-нибудь…»
— Ты в Одессе-то был? — спросил он Стефана.
— Одесса? Ну — ла лазарет, ла каса.
— В госпиталь да домой? Так… А я вот, — показал Федьков на себя, — в госпиталь да на фронт.
— Фронт — плохо.
— Плохо не плохо, а воевать приходится…
Стефан помолчал, напряженно выискивая в памяти запомнившиеся ему за время войны русские слова, и, показывая на свою больную руку, с грустной улыбкой проговорил:
— Работа — плохо, жить — плохо…
— Чего уж так — совсем плохо-то?
Из разговоров за столом Федьков знал уже кое-что о Стефане, знал и о его неполадке с Флорикой — об этом еще до прихода Стефана упомянул Матей.
Федькову было жалко этого парня и казалось странным: да как же он всю свою любовь поломал только из-за того, что рука ранена?
Хотелось чем-нибудь утешить. Но чем?
Пришла Дидина, сняла с таганка котел со сварившейся мамалыгой, от которой шел вкусный парок. Понесла мамалыгу в хату и позвала Стефана ужинать. Но тот словно не слышал ее и остался у потухающего огонька. Под таганком вяло шевелилось совсем немощное пламя: догорала последняя головешка. Алые угольки, покрываясь сероватым налетом пепла, гасли один за другим, и на лицо Стефана, молча смотревшего на умирающий огонь, все плотнее ложились тени.
Повеяло холодком надвинувшейся ночи. Федьков зябко повел плечами и повернулся к Стефану: не пора ли затоптать чуть живой огонек под таганком и идти в хату? Но Стефан сидел задумавшись, и Федьков не стал тревожить его.
Расстелив на столе широкое узорчатое полотенце, Дидина потчевала Гурьева горячей мамалыгой. Теперь она уже не боялась русских.
Еще весной, когда в Румынию вступили советские войска, по Мэркулешти поползли тревожные слухи. Говорили, что в Советской Армии только командиры — русские, а солдаты — все какие-то монголы, страшные, заросшие черными волосами, питающиеся сырым мясом, злые и жестокие, не понимающие человеческой речи. Говорили, что русские с румынами поступают так же, как поступали немцы с русскими: всю молодежь из деревень отправляют на работы в сибирские леса и шахты, а остальных жителей нумеруют и отбирают все имущество; будет запрещено продавать свое добро, устраивать свадьбы и даже ходить из одной деревни в другую. Словом, передавали такие страхи, от которых не у одной старой Дидины замирало сердце.
Хотя Дидина теперь уже и не страшилась пришельцев, но по-прежнему нелегко было у нее на душе: где-то в России, может быть, руками вот этих людей, сидящих сейчас за ее столом, убит ее Сабин, а еще раньше — искалечен Стефан. Конечно, каждый военный выполняет то, что ему прикажут. Матей рассказывал, что во время забастовки в Плоешти солдаты стреляли в своих. А ведь русские стреляли в тех, кто врагом пришел на их землю. Вот этот офицер и солдаты, гости их дома, стреляли в ее сыновей, а ее сыновья стреляли в них… И зачем господь допускает такое? Дидина считала, что война — от зависти человеческой. Ей было непонятно: один сосед злобствует на другого — не позволяют же им убивать друг друга. А почему нет управы на тех, кто затевает войну? Неужели бог бессилен предотвратить это? «Прости, господи!» — в испуге бормотала она, уличая себя в том, что усомнилась во всемогуществе божьем…
Илие, чувствовавший себя теперь в обществе русских совсем непринужденно, при помощи Матея допытывался у Гурьева: как живут крестьяне в Советском Союзе и как теперь должна пойти жизнь в Мэркулешти?
Отвечая на расспросы, Гурьев, к своему собственному удивлению, вдохновенно говорил о самых обыкновенных вещах, которые раньше для него были настолько обыденными, что никогда и не становились темой для разговора.
Он сейчас был особенно горд всем советским, всем — от большого до мелочей: тем, например, что совсем нет безработных, что всех лечат бесплатно, что можно устроить свадьбу и без приданого, даже тем, что в каждом магазине есть книга жалоб; ведь во всем этом теперь, вдалеке от Родины, на фоне всего увиденного здесь он особенно ясно, как никогда раньше, осознавал, насколько выше, совершеннее тот строй, вне которого он не мог и мыслить своего существования. Так маленький драгоценный камешек заметнее не в сверкающей россыпи подобных ему камней, а на темном фоне.