Полюби меня, солдатик...
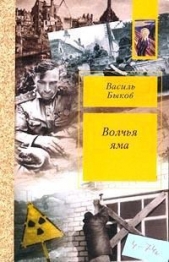
Полюби меня, солдатик... читать книгу онлайн
Писатель Василь Быков – участник Великой Отечественной войны, которая определила темы, сюжеты и выбор героев его произведений. Повести его прежде всего – о человеке, пытанном ледяной водой болот, мокрой глиной окопов, пустотой леса в ничейной полосе, неизвестностью исхода войны, соблазном бессилия, безнадежности, отступничества, бесконечностью раскисших дорог...
«… Как всегда на фронте, спасу от немецких мин не было нигде – ни в поле, ни в лесу, ни в городе. Разве что в земле. Но в земле мы уже насиделись за зиму, а тут в Австрийские Альпы пришла весна, на пустыре зеленела усыпанная лютиками трава, в палисадниках зацветала сирень, днем пригревало солнце. На душе посветлело, даже становилось радостно от предчувствия молодой, бездумной удачи. Особенно когда тебе уже перевалило за двадцать и впервые за войну появилась надежда выжить. А сегодня вдобавок попался под руки велосипед, на котором не катался с детства.
Из-за оснеженных хребтов вынырнуло утреннее солнце, слепящими лучами неожиданно ударило в глаза, дорога метнулась в сторону, колесо – в другую, и я с разгона загремел на мостовую. Превозмогая боль в колене, поднял голову и увидел рядом людей. Плотно пригнанные к уцелевшей стене дома, стояли две командирские машины – американский «Виллис» и трофейный «Хорх», возле которых, удивленно уставившись на меня, замерла группа офицеров. Конечно, это было начальство. «И когда их принесло сюда?» – недоуменно подумал я. Тихо ругнувшись, стал не спеша подыматься. Торопиться уже не имело смысла, я отчетливо сознавал, что влип, и думал только о том, как бы скорее пережить малоприятную встречу.
– Посмотрите на него! – прозвучало издевательским командирским тоном. – Он думает, что война уже кончилась. Немцы не успели застрелить, так он сам на рожон лезет... …»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Он говорит, – продолжала Франя, – что русские должны понять: нацизм и коммунизм есть два конца одной палки.
Такое я слышал впервые, и это показалось мне странным – одной палкой мерить Россию и Германию. У нас никто так не высказывался даже по пьянке, за такие мысли в два счета можно было лишиться погон и загреметь в штрафную. Странно было бы даже так подумать – все-таки мы воевали за свободу своей родины против немецкого фашизма. При чем тут два конца одной палки?
Немало озадаченный, я молчал. Наверно, почувствовав это, хозяин помедлил и, кивнув на прощание, повернулся к выходу. Вместе с фрау они молча вышли, не притворив за собой дверь.
– Ты посиди, я сейчас, – тихо бросила мне Франя, направляясь следом.
Оставшись один, я встал из-за стола, прошелся по вестибюлю. Профессор меня прямо-таки расстроил. Конечно, я понимал, что за победой последует иная, мирная жизнь, наверно, она будет нелегкой, ведь вся Европа лежала в развалинах. Но теперь не хотелось думать о том, все наши мысли занимала победа. Та самая, о которой мы столько мечтали в дни удач и особенно в дни поражений, когда она была так далеко, что упоминание о ней казалось издевкой, примитивной пропагандистской ложью. Впрочем, для многих таковой и осталась, о настоящей они никогда ничего не узнают. Иным вот посчастливилось до нее дожить и, может, удастся вкусить плод с ее божественного дерева. Почему он должен оказаться горьким?
Из узкого окна с высоким, как в церкви, подоконником почти не просматривались окрестности, а мне все-таки надо было видеть мои орудия. И я сказал о том Фране, когда она снова вбежала в вестибюль. Удивительно, как за эти полдня переменилось настроение девушки, на глазах обретшей почти беззаботный, радостный вид. Легкая и стремительная, она все больше стала походить на шаловливую школьницу, все больше привлекая меня.
– Идем! – сказала Франя и повела меня куда-то в боковую дверь к крутым винтообразным ступенькам.
На чердак, что ли, подумал я.
Оказалось, не на чердак, а в игрушечную башенку, что, будто стаканчик, виднелась издалека на черепичной крыше.
– Вот! Отсюда все видно. Вон твои солдаты.
Вид на окрестности действительно открывался чудесный – почти половина разбитого артиллерией городка, улица до поворота, задымленный, со штабелями бревен и досок двор лесопилки, мои орудия – одно сразу за речкой, другое по ту сторону лесопилки. Напротив, за дорогой, распростерся широкий горный склон, поросший снизу хвойным молодняком, переходящим выше в старый сосновый лес. С другой стороны видно было немного – крутой черепичный скат крыши да вершины кряжистых деревьев, за которыми высилась голая скала. В тесненькой уютной башенке было пусто, лишь стояла легкая белая скамейка, рядом с которой темнел выход на лестницу. Славное было местечко, и я заволновался. Показалось, Франя привела меня сюда не просто так, а с определенным умыслом, и оттого девушка стала для меня еще ближе.
На моих позициях не замечалось ничего особенного. Рассевшись на станинах, солдаты, наверно, рассуждали теперь о мире, до которого все-таки дожили. Те, кто постарше, конечно, настраивались на дом и хозяйство, младшие мечтали о своем – встрече с родителями, учебе и любви. В общем, все было понятно, каждый стремился занять свое место в жизни. Победа была добыта сообща, дальнейшее, пожалуй, зависело от каждого в отдельности.
И не зависело от войны – в чем была наша самая большая удача.
Я присел на изящную белую скамейку, Франя стала напротив возле широких, с круговым обзором окон.
– Митя, ты не серчай на доктора Шарфа. Его напугали, – сказала Франя.
– Кто напугал?
– А кто их знает, – Франя пожала плечиками. – Ночью какие-то, трое...
– Военные?
– Не разберешь. Было темно. Поднялись наверх...
– А разговаривали – по-немецки?
– По-немецки. Похоже, однако, не немцы. Сильный акцент – славянский.
– И что им было нужно?
– Не знаю. Мне доктор Шарф ничего не сказал. Фрау Сабина плакала.
– А ты?.. Тебя они о чем-нибудь спрашивали?
– Я спряталась. Меня они не нашли.
– Вот как!
Это было хуже, это что-то усложнило и вызывало во мне беспокойство. Мало того, что война, фашисты, так и еще какие-то. Может, наши – особисты? Но зачем им эти австрийские обыватели? Или они из-за Франи? Но она-то зачем им понадобилась? Или она им мешала? Чего-то несомненно важного я понять не мог и терялся в догадках.
– А этот твой Шарф точно не фашист?
– Он ненавидит фашистов. В Ганновере, бывало, как бежим в бомбоубежище, так он их ругает. Представляешь: не англичан, которые бомбят, а своих, немцев. Когда те не слышат...
– Ну, когда не слышат, можно и поругать, – сказал я. – Садись сюда, рядом.
Франя нерешительно опустилась на край скамейки. Настроение ее стало заметно омрачаться, и было ясно отчего. После ее рассказа о прошлой ночи я тоже начал тревожиться. Из-за Франи, конечно. Я чувствовал, что-то ей угрожало. Девушка между тем стала рассказывать.
– Там, в Ганновере, бомбили каждую ночь, алярмы – тревоги эти, с вечера до утра. В городе ад, все горит и рушится. Цивильное население спасается в бомбоубежищах. Бывало, что и бомбоубежища рушились, и все погибали. Правда, мои старики никуда без меня. Как только загудит, зовут меня, и вместе спускаемся в подвал...
– А что у них – свой дом?
– Квартира в большом доме. Правда, квартира немалая, а я одна – и за горничную, и за кухарку. Работы уйма. Но старалась. Сначала присматривались ко мне, что я умею. Я и правда немного умела. Но училась, хотела понравиться. Потому что, как же иначе жить у чужих? Надо угождать. Так мама когда-то учила. Ну, что сделаю не так – не ругали, не наказывали, как некоторых. Фрау Сабина расскажет, покажет. Разве я эти дверные ручки когда-нибудь дома чистила? Да у нас их и не было, таких блестящих. А здесь требовалось, чтобы все было чисто и красиво.
На тесной скамейке Франя сидела близко от меня, но я подвинулся еще ближе, и она не отстранилась. Мои блудливые руки она перехватила своими и цепко держала их на коленях.
– Так ты у них за прислугу, – слегка разочарованно протянул я.
– Ну, конечно, а для чего же они меня взяли. Конечно, разная бывает прислуга, как и разные хозяева. В Ганновере через улицу жила Клава, тоже остовка. Каждый день плакала из-за своей хозяйки. Погибла в бомбежку. Молоко кипятила для ребенка, начался налет, надо было подождать, пока молоко закипит. Опоздала в укрытие, ну и завалило. Вместе с ребенком. А мать уцелела. Успела с шестого этажа сбежать вниз. Когда наш дом рухнул, выбрались мы на улицу с пустым термосом и одним пледом. Больше ничего – ни дома, ни имущества. Что делать? Другие себя спасали, а мои без меня никуда. Какое-то время жили в банковской конторе, потом в солдатском бараке. Когда прибыли документы из Австрии, они переехали сюда. Меня тоже взяли. Денег почти не было, фрау заложила в банк свои сережки, старинную брошь. Тут, правда, кое-что получили из наследства.
– Ну, хорошо, – сказал я. – А язык? Где ты так научилась по-немецки? В школе?
– Немного в школе, конечно. Но в основном здесь. Способная была, умела слушать. Слух, кажется, есть, мама когда-то музыке учила. Да и фрау Сабина немного понимает по-польски.
– А ты можешь и по-польски?
– Немного могу. Мама католичка, это по моему имени видно. Католики ведь, хотя и белорусы, по-польски все понимают. А ты православный?
– Кто знает? Может, и некрещеный. Родители – учителя, разве они могли решиться – сына крестить?
– Ты посиди, – вдруг выпустила мои руки Франя. – Я скоро вернусь.
Она скрылась в сумраке люка-лаза, снизу лишь донесся мягкий стук ее шагов по доскам-ступенькам, и где-то негромко стукнула дверь.
Я поднялся со скамейки, снова осмотрел через стекла городские окрестности. По дороге из-за угла полуразрушенного дома, где я так позорно грохнулся с велосипедом, быстро промчался трофейный «Хорх» – не тот ли, на котором ездил бригадный особист, и я с досадой подумал: откуда он? Из первой батареи или из пехоты? Кончается война, а этим все неймется, все мечутся, кому-то что-то готовят. В общем, мне на них наплевать, грехов за собой я не числил – в плену не находился, на оккупированной территории не проживал. Из харьковского окружения вышел не один, а в составе группы, и тот эпизод моей военной биографии уже исследован ими вдоль и поперек. В этом отношении я был спокоен. Но, наверно, не очень тревожился и командир взвода связи Витя Лежневский, которого месяц назад арестовал Смерш. Как-то, подвыпив в кругу друзей, позволил себе порассуждать о несправедливости к окруженцам, которых после освобождения всех без разбору гнали в штурмбат. Ребята потом говорили, что сам виноват, не надо было трепаться. Вообще, мы не трепались. Если собирались где-либо в землянке и выпивали, то больше говорили про бои или горланили песни, кто как умел. Разговоров о политике благоразумно избегали, особенно старшие из нас, которые кое-чему были уже научены.


























