Пропавшие без вести
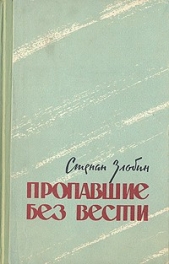
Пропавшие без вести читать книгу онлайн
Новый роман известного советского писателя Степана Павловича Злобина «Пропавшие без вести» посвящен борьбе советских воинов, которые, после тяжелых боев в окружении, оказались в фашистской неволе. Сам перенесший эту трагедию, талантливый писатель, привлекая огромный материал, рисует мужественный облик советских патриотов. Для героев романа не было вопроса — существование или смерть; они решили вопрос так — победа или смерть, ибо без победы над фашизмом, без свободы своей родины советский человек не мыслил и жизни. Стойко перенося тяжелейшие условия фашистского плена, они не склонили головы, нашли силы для сопротивления врагу. Подпольная антифашистская организация захватывает моральную власть в лагере, организует уничтожение предателей, побеги военнопленных из лагеря, а затем — как к высшей форме организации — переходит к подготовке вооруженного восстания пленных.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Емельян не заметил, когда тюремная явь сменилась сном, да и сменилась ли… Он лежал на спине, глядя сквозь решетку на все еще темное небо, и едва сомкнул веки, даже мглистый рисунок железных переплетов окна не успел стереться перед его взором, как на темном синем фоне окошка возникли образы Ганны и Юрки… Сначала всплыло одно лицо Ганны, его мягкий овал и глаза ее, которые смотрели на Емельяна печально и неподвижно. Затем возник беленький, голубоглазый Юрка, но не такой, каким он мог быть сейчас, четырнадцатилетним мальчишкой, даже и не такой, каким он был три года назад, перед отъездом Емельяна на фронт, а всего пяти- или шестилетний, как на фотографии, стоявшей на письменном столе…
Но сон не обманул Баграмова их кажущейся реальностью: Емельян не ждал от Ганны и Юрки слов, не слышал их голосов, это были лишь выпуклые, хотя и реальные, но недвижные и молчаливые образы, зрительные отпечатки памяти. Ощущение оторванности от них и во сне не исчезло, как не покинуло его сознание, что он в тюремном каземате, как не исчезло чувство близости неминуемой смерти…
Внутренний голос Баграмова продолжал говорить, слагая это письмо, может быть, последнее из множества не отправленных и не написанных им писем:
«…И видишь, какое долгое время смерть уносила моих друзей, сохраняя надежду, что я увижу тебя.
На этот раз обернулось все так, что именно мне вынулся «несчастливый номер» и я тоже должен погибнуть… Но мы все-таки победим!..
На этот раз я говорю «мы», разумея не только тех, кто находится здесь, в плену, но всех, кто принадлежит к армии величайших дерзаний человечества, — к армии коммунизма, — мы победим! И мы, томящиеся здесь без возможностей настоящей борьбы с врагом, поверженные, но непобежденные, мы не ощущаем себя отторгнутыми от семьи победителей.
Мы возвратимся к вам, любимым и близким, чтобы вложить наши силы в общее дело, которое наш народ будет вершить после победы над фашизмом.
Однако ты меня не жди больше. Мне уже не придется прийти к тебе, Ганна. Я не вернусь к тебе с Юриком, не обниму вас, не услышу твоего голоса, никогда не взгляну в твои золотые глаза…
Но когда поставят меня под пытки, когда поведут на расстрел или палач потащит меня по лестнице к заранее приготовленной петле, я буду помнить вас, самый близкий и дорогой мне кусочек родины. И я буду знать, что в вас я еще буду жить, и грустить, и радоваться, и бороться вместе со всем нашим народом…
Юрка, мой мальчик! Как мало в жизни тебе пришлось знать отца! Как мало я передал тебе из всего, что должен вложить в сердце сына отец…
Когда в первые минуты я оказался здесь, за железной дверью этого каземата, преддверия казни, у меня промелькнула мысль, что я могу оставить фашистов в дураках, покончив с собою, прежде чем они успеют подвергнуть меня мучениям.
Тонкое и острое стальное лезвие «безопасной» бритвы не было обнаружено при обыске. Вскрыть вены было бы так легко, прежде чем растянуться на нарах одиночки. Но меня остановила от этого мысль о том, что мною еще не все в жизни познано, что радость жизни в новом и новом познании до последней минуты, пока человек способен чувствовать и мыслить. Да, меня ждет впереди только боль, и горечь — лишь ощущение приближения конца. Но разве человечество счастливо только yлыбками? Счастлив тот, кто, даже умирая, чувствует себя победителем. У стены Коммунаров не было улыбок. Борцы умирали, но многие из них чувствовали себя победителями, они кричали: «Да здравствует…»
Мальчик мой Юрик, кричи во что бы ни стало: «Да здравствует…» Если придется, сквозь боль и муки, погибая в борьбе, провозглашай: «Да здравствует…»
Да здравствует человечество, познающее, творящее и побеждающее! Я люблю в тебе, Юрик, мою чудесную Ганну, твою мать, но я люблю в тебе и мою, нашу будущую землю, молодое человечество с горячим сердцем, с ясным умом и сильными руками, которое через муки и кровь, через все страдания, ошибки и промахи придет-таки к правде мира и созидания…
Может быть, мои слова кажутся тебе слишком напыщенными, Ганна? Но разве человек не заслужил перед смертью права на несколько минут лирической декламации, тем более перед такой скромной аудиторией, как ты и Юрик?..
Я говорю с тобою сейчас не от ума, а от сердца. Сердце же всегда несколько сентиментально, в нем, вероятно, таится память о музыке…
Я так хотел бы еще перед смертью услышать хотя бы только раз музыку. С какой жадностью я ее слушал бы! Я слишком мало ее слушал в жизни…
Но музыка будет только после войны.
На рассвете — ты помнишь когда, Ганна? — в деревне пастух играл на свирели. Какие это были простые, прозрачные звуки!.. Впрочем, не нужно об этом. Ты сама тогда была музыкой…
Человек имеет право не только на радость борьбы, но и на тихое, идиллическое наслаждение, когда он видит кормящую ребенка мать, озаренную блеском рассвета, слышит щелканье пастушеского кнута, прозрачные звуки свирели и тихое мычанье коров, блаженно погружающих морды в траву, которая поседела от утренней росы… Какое в этом щедрое великолепие покоя и мира!
Только пошляки могут это отвергнуть, как на каждом шагу пытаются они отвергнуть человечность.
Разве любовь к тебе и Юрику может заставить меня ослабнуть в борьбе!..»
Лица Ганны и Юрика были так близко, что хотелось коснуться их, ощутить теплоту их кожи. Казалось, так легко дотянуться до них… Ганна сказала что-то, явно губы ее шевельнулись, но Емельян не услышал голоса.
— Что ты сказала? Что? — добивался он. Она повторила слово. Он видел это по движению губ, но опять не расслышал. Это было мучительно… — Ганна!! — крикнул Баграмов.
…Удары в железную дверь загремели, как канонада.
— Подъем! Подъем!..
Баграмов с неправдоподобно колотящимся сердцем вскочил с дощатого ложа.
Сквозь решетку в окно пробивалось пасмурное утро.
Кружка кипятку с ломтиком хлеба — завтрак… Проходя мимо двери, кто-то кинул в волчок бумажку. Баграмов жадно схватил ее, осторожно развертывал, стоя спиною к волчку. Он ожидал получить записку, но в бумажке оказалась махорочная закурка, спичка и кусочек спичечного коробка, чтобы ее зажечь.
— Спасибо, — тихонько сказал Емельян, выпуская струйку горького дыма после первой затяжки.
После закурки и завтрака никуда никого не вызывали. Сколько Емельян ни прислушивался, не было ни единого звука. Видимо, все заключенные так же напряженно и молча думали. Ведь обдумать надо было так много! Что могут знать фашисты, чего не могут? Может быть, будут звать на допрос, устраивать суд или «просто» расстреляют или повесят? В этом случае надо и предстоящую казнь обставить достойно советских людей. Следует продумать предсмертную речь. А вдруг не дадут сказать!.. Может быть, всем вместе запеть «Интернационал», а в самый момент расстрела крикнуть: «Да здравствует СССР! Да здравствует коммунизм! Смерть Гитлеру!»
Если поставят всех вместе на расстрел, то, наверное, выдержат все — ведь, как говорится, на миру и смерть красна, — а что, если вдруг станут вешать поодиночке, одного за другим, — у кого-нибудь могут ведь сдать нервы…
Но все-таки — что же гестапо известно? Кто мог донести? Видимо, взяты все члены бюро. А почему вдруг Костик, Спивак, Голодед, Ольшанский? А Лешка Безногий?! Был ли он в списке? Хотели арестовать его или взяли в тюрьму лишь потому, что застали в чужом бараке?
Уже совсем рассвело и настало полное утро, когда гулко хлопнула выходная тяжелая дверь тюрьмы, а вслед за тем послышались, как всегда преувеличенно громкие, голоса нескольких немцев. Баграмов прислушивался. Щелкали запоры дверей в соседних камерах, раздавались, как цоканье копыт, тяжелые шаги арестованных, обутых в деревянные колодки. Видимо, всех выводили.
«Быстро управились!» — усмехнулся Баграмов, при мысли о том, что если выводят всех сразу, то это уже не на допрос, а сразу на казнь… Глаза его застлались желтым туманом. Он ощутил на минуту слабость в суставах; захотелось согнуть колени и сесть прямо тут, у дверей, на цементный пол камеры… Но в это время громыхнула задвижка его двери. Он вздрогнул и подтянулся.
























