Вот кончится война...

Вот кончится война... читать книгу онлайн
Эта книга о войне, о солдатах переднего края, ближнего боя, окопа, о спешно обученных крестьянских детях, выносливых и терпеливых, не всегда сытых, победивших врага, перед которым трепетали народы Европы.
Эта книга о любви, отнятой войной у чистых юных душ. Мирное время, пришедшее на смену военным будням, порой оказывается для героев труднее самой войны.
Все произведения Анатолия Генатулина глубоко автобиографичны и искренни. Автор пишет только о том, что довелось пережить ему самому – фронтовику, призванному в армию в 1943 году и с боями дошедшему до Эльбы в победном 1945.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За Одером начиналась другая Германия. Одер мы не форсировали – кавалерия реки не форсирует, – мы переехали Одер по понтонному мосту уже после боев. Подъезжая к реке, мы увидели по сторонам дороги трупы наших солдат, несколько из них были в белых маскхалатах. Наверное, когда шли бои, здесь шел снег, теперь снег растаял, и белые солдаты на бурой земле лежали как остатки дотаивающих сугробов. Сердце холодело при виде этих недвижных белых и серых бугорком в поле. Мимо убитых мы ехали молча. А я, как всегда при виде мертвяков, смятенно и в то же время с отрадной уверенностью думал о том, что это – с ними, это они погибли, а со мной этого не будет, не будет! Воды Одера были мутны и медленны. Сколько убитых и тяжело раненных наших солдат поглотили, наверное, эти воды, какие реки человеческой крови разбавили и унесли в море!..
За Одером начиналась Германия белых флагов. В городах, где население оставалось почти полностью, белые флаги вывешивали из окон и балконов домов. По дорогам обратно, на восток, брели беженцы, женщины, старики, дети; старики, завидя нас, снимали кепки, шляпы, обнажали плеши; многие катили детские коляски, велосипеды со скарбом, несли узлы, рюкзаки, чемоданы; некоторые цивильные ехали в тяжелых, запряженных такими же тяжелыми лошадьми фурах. Солдаты наши лошадей выпрягали для армейских повозок, фуры выкатывали на обочину, и люди, молча покорившись судьбе, бросив перины, пуховики и захватив с собой самое необходимое и легкое, присоединялись к потоку пеших беженцев. Перины кто-то потрошил, ветер выдувал из них пух, носил по дороге, напоминая нам февральские бураны.
За Одером мы и сами уже были другие. За месяцы боев в Германии мы уже присмотрелись к этой стране, привыкли, притерлись к ней. Мы уже не испытывали к цивильным немцам ненависти. Жалеть их, этих бредущих со скарбом немцев, мы, молодежь, правда, еще не умели, а вот старики Решитилов, Федосеев или люди постарше нас, помкомвзвода Морозов, Баулин, Евстигнеев – те жалели. Особенно детей и женщин. Располагаясь в деревнях, не покинутых населением, мы с немцами теперь общались свободней и проще. Мы видели, что немцы голодают. Война выгребла все подчистую из крестьянских закромов, до нас здесь прошли отступающие немецкие части, обобрали население, объели бауэра. Особенно трудно было беженцам из восточных областей, женщинам, часто немолодым, которые застряли здесь, ютились у чужих людей и пробавлялись бог знает чем. Наши старички их подкармливали, то хлебом поделятся, то из солдатского котла Андрей-Марусиного варева принесут. Помкомвзвода давал этим женщинам подворотнички пришивать или залатать прохудившиеся солдатские портки, гимнастерки, за это немки получали хлеб и, кланяясь, благодарили помкомвзвода: «Данке шёён, данке шёён!» Я догадывался, что помкомвзвода делает это из деликатности, чтобы немки думали, что хлеб они заработали.
В деревнях вокруг нас постоянно крутились мальчишки. Ребятишки везде ребятишки. Правда, немецкие мальчишки были одеты лучше и опрятней наших деревенских сорванцов, но так же как и они полны любопытства к военным, к оружию. Вряд ли они видели в нас врагов; если и видели, то любопытство, наверное, было сильнее их настороженности, враждебности. Они «стреляли» у нас курево, просили подержать оружие или даже пальнуть из карабина, водили наших коней на водопой и быстро учились русской матерщине. Глядя на своих детей, взрослые успокаивались, смягчались – солдаты, так любящие детей, не могли причинить им зла.
Мне многое нравилось в Германии, нравились их дороги, обсаженные где ветлами, тополями, где и яблонями. Мне нравились их чистенькие города, мощенные камнем улицы, опрятные квартиры с обязательным пианино, уютные городские площади и ухоженные скверики. Мне нравились их деревни, кирпичные, крытые черепицей островерхие дома, чистенькие крестьянские подворья, хлевы, не унавоженные, с добротными стойлами и кормушками для скота. Скотина породистая, упитанная. Рыжий пимокат Евстигнеев входил в эти дома, коровники и уже который раз удивлялся и говорил одно и то же:
– Вот как надо жить! После войны, если останусь жив, построю себе вот такой же коровник. Или вот у них подполы. У меня в избе под полом просто яма, земля. Картошка лежит зимой. А у них под полом и кладовка и стирка. Буду рубить новую избу – вот такой же подпол оборудую.
– Дак они же пол-Европы ограбили. А ты на какие шиши построишь? – возразил сержант Андреев. – Где возьмешь кирпич, цемент?
– А камень на что? Мы на Урале ходим и спотыкаемся об этот камень. А цемент не обязательно. Глина есть.
– Не построишь, – категорично отрубил Голубицкий.
– Почему не построю?
– Не построишь. Как жил раньше, так и будешь жить.
– Но ты скажи: почему ты думаешь, я не построю?
– Потому что ты не немец.
– Ерунда! Причем тут немец? У нас на Урале есть дома побогаче ихних.
– А почему тогда у тебя дом бедный?
– Все руки не доходили. Думал, и так сойдет. Да зашибал маленько.
– Теперь, думаешь, не будешь зашибать?
– Не-е! Вот зарок! Вернусь живой – отпраздную возвращение и больше в рот не возьму эту заразу.
– Зарекалась свинья…
Так разговаривали и спорили ребята иногда, и верилось, что после войны жизнь пойдет замечательная, что они построят новые дома и дворы не хуже, чем у немцев, и заживут счастливой мирной жизнью. А сам я не думал ни о доме, ни о хоэяйстве, потому как у меня не было ни кола ни двора, да и не собирался я после войны воротиться в деревню. По-другому о своей послевоенной жизни думали, наверное, городские жители Голубицкий, Андреев, Смирнов.
За Одером к нам пришло пополнение. Украинцы Ковальчук, Сало и русский паренек Сомов. Ковальчук был из Западной Украины и не говорил по-русски. Коня он называл «лошадка». Сержант Андреев, любящий покуражиться, спрашивал у Ковальчука, показывая на коня:
– Ковальчук, что это такое?
Ковальчук, малорослый мальчишка с испуганным лицом, отвечал негромко:
– Лошадка.
– Не лошадка, а боевой строевой конь, понял? Повтори!
– Боевой конь, – повторял Ковальчук едва слышно.
– Громче! Надо отвечать: боевой строевой конь, товарищ сержант!
Потом Музафаров, охотник разыгрывать и понасмешничать, говоривший сам «на карман поставил», донимал Ковальчука:
– Ковальчук, что это?
– Лошадка, – снова отвечал Ковальчук.
Второй украинец, Сало, не нюхавший еще пороха, как и Заяц, ничем особенным не выделялся и так же, как и он, незаметно вошел в наш взвод и как-то тихо прижился в нем. Только насчет его фамилии немного посмеялись вначале: «Ну, братцы, теперь у нас есть сало, теперь с голода не помрем».
Третий новичок, Сомов, был из освобожденных военнопленных. Широколицый, с настороженными глазами Сомов почему-то сразу не понравился нам. За спиной у него некоторые зашептались, что он бывший власовец. А власовцев мы ненавидели больше фрицев. Недавно во втором эскадроне был случай. Захватили в плен власовцев и заперли вместе с пленными немцами в сарае. Старший сержант пулеметного взвода Бугров, выпивши, взял увесистую палку, вошел в сарай и приказал сидящим в одной куче с немцами власовцам: «Русские, выходи налево!» Те подчинились, а старший сержант давай дубасить их палкой. Дубасил и кричал: «Суки, предатели, продажные шкуры!» Прибежали ребята и с трудом оттащили разъяренного Бугрова. Так вот Шалаев, Андреев, Худяков, я тоже присоединился к ним, однажды, после обеда, отозвали Сомова в сторонку в лес и напустились на парня:
– Что-то нам твоя морда не нравится! Ты – власовец, скажи прямо! Все равно узнаем и шлепнем тебя!
– Что вы, ребята, какой я власовец! Я в плену был!
– Врешь! Лучше признавайся, а не то!
– Ребята, ну что вы! Меня же проверяли, – и Сомов заплакал.
– Сразу в слезы! Иди еще пожалуйся старшему лейтенанту, – сказал Шалаев и ткнул кулаком Сомова. – Ладно, не обижайся. Мы ведь так. Пошутили.
За Одером мы долго ехали без боев, точнее, без тяжелых боев. Преследуя отступающих немцев, с ходу сметали небольшие заслоны и перли дальше по шоссейным дорогам. Навстречу нам тек поток беженцев, брели колонны пленных, часто шли без конвоя, расхлябанные, жалкие. Старший лейтенант Ковригин на привалах или на марше, повернувшись в седле к нам, сообщал какую-нибудь новость, ну, например, пояснял, что за канонада громыхает правее нас уже целый час, это, оказывается, добивают окруженные немецкие части. Однажды сообщил, что наши взяли Кенигсберг. Тот самый Кенигсберг, который мы отсекли от Германии еще в январе и, оставив в далеком тылу, уже о нем малость подзабыли. И вот только теперь, после долгих тяжелых боев взяли его штурмом, этот Кенигсберг.

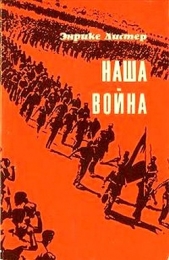
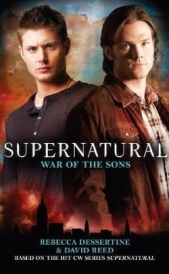


![Архимаг. Колдовская война [трилогия]](/uploads/posts/books/6658/6658.jpg)




















