Вот кончится война...

Вот кончится война... читать книгу онлайн
Эта книга о войне, о солдатах переднего края, ближнего боя, окопа, о спешно обученных крестьянских детях, выносливых и терпеливых, не всегда сытых, победивших врага, перед которым трепетали народы Европы.
Эта книга о любви, отнятой войной у чистых юных душ. Мирное время, пришедшее на смену военным будням, порой оказывается для героев труднее самой войны.
Все произведения Анатолия Генатулина глубоко автобиографичны и искренни. Автор пишет только о том, что довелось пережить ему самому – фронтовику, призванному в армию в 1943 году и с боями дошедшему до Эльбы в победном 1945.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Ну, получил медаль? – сказал мне Шалаев и добавил: – Дадут, только из г… понял?! – И напустился на сержанта Андреева: – А ты чего убежал! Шкуру свою спасал?!
– Откуда я знал, что они в плен сдаются? Я не такой дурак, чтобы один воевать против целой роты фрицев! Я же вас предупредил.
– А если бы не в плен сдавались, а в бой шли? Что бы сделали со своими карабинами? – пугал нас задним числом Голубицкий.
– Фрицы сейчас злые, они им, дуракам, кишки выпустили бы, – заключил Евстигнеев.
– Жди, я бы дался им. Не на того напали. Верно, Гайнуллин? – хорохорился Шалаев.
– Верно. Мы их гранатами уложили бы и убежали, – похвалился я.
– Из-за вас мы без жратвы остались! – вклинился в препирательство Музафаров. – Вы там бродите, а тут саматуха.
– Не саматуха, а суматоха, – поправил я.
– Мне, татарину, и саматуха сойдет.
– А почему это без жратвы остались? – поинтересовался я.
– Андрей-Маруся со своей кухней ехал к нам, услышал пальбу и тикать обратно, – пояснил Воловик.
– Раз уж ходили туда, сигары или табак хороший принесли бы, что ли, – не унимался Музафаров.
– За сигарами ты сам сходишь, Музафарчик, – сказал Шалаев. – Говорят, там для тебя приготовили. А стрелял ты хреново, целый диск выпустил, а убил только трех фрицев, да и то пленных.
– Скажи спасибо, что тебя не убил.
Баулин, как всегда, не участвовал в этом трепе. Стоял в окопчике за пулеметом, слушал нас и улыбался. Поговорили и разошлись. Одни вернулись в дом, другие в окопы. Я подошел к Баулину, чтобы сменить его, спустился в окоп и рассказал ему о наших приключениях, он слушал, курил, лицо у него было серьезное, но в добрых глазах его светился веселый смешок и теплилась взрослая снисходительность ко мне.
– А русских баб там не было? – спросил он, чуть изменившись лицом.
– Нет. Одни фрау, – ответил я и который уже раз подумал: вот бы если бы так – мы пришли в какое-нибудь имение, на хутор, в деревню, а там русские женщины, среди них – жена Баулина. Но в жизни так, наверное, не бывает.
– Ты все же не очень ходи с этим Шалаевым, – сказал Баулин, посерьезнев. – Ты же хороший парень, пропадешь зазря.
Он ушел в дом, а я все думал о том, почему Баулин считает меня хорошим парнем и уже не первый раз говорит мне об этом. Что во мне хорошего? Но с другой стороны, если он так считает, значит, что-то знает про меня хорошее, видит во мне чего-то такое, чего я сам не вижу…
Андрей-Маруся приехал со своей кухней, когда уже стемнело. (Обозы, кухня и наши кони находились в километре отсюда в тылу.) После ужина одни завалились спать в доме, другие бодрствовали в окопах. Как всегда, когда на передовой было спокойно, пулеметчики, сменяя друг друга, дежурили по одному. Меня сменил Баулин, я поспал два часа и снова вернулся в окоп, на снег, под снег и в кромешную тьму.
Снег шел не дневной – крупный, мокрый, а мелкий, жесткий, колючий. Ветер гнал его на нас, заметал, засыпал наши окопы, меня с ног до головы, хлестал по лицу, по глазам. Ничего не было видно впереди. Да ведь я уже знал, что там, кроме помещика с его фрау, нет никого. На всякий случай время от времени я нажимал на спуск и посылал в сторону помещичьего имения очередь трассирующих пуль, это не столько для немцев, сколько для своих, дескать, я бодрствую, да и для немцев, конечно, если они все же где-то близко от нас. Война – не мирная работа, ее не остановишь на ночь, ночью она хотя и затихает малость, но звуки и голоса ее не замолкают окончательно, она ворочается, погромыхивает, потрескивает, позвякивает и как будто скрежещет зубами. Да скучно ночью без стрельбы. И тревожно. Стрельба эта спящим не мешает, к ней давно привыкли, солдат спит даже под грохот канонады. Его может разбудить только голос командира и хлесткая команда: «Взвод, к бою!»
Где-то недалеко слева от меня стоял Шалаев. Я его не видел и не слышал, да и не стрелял он, как я, из своего «Дегтярева».
– Шалаев, – позвал я.
– Чего.
– Ничего. Я просто так.
А через какое-то время он:
– Гайнуллин, а Гайнуллин, может, на разведку сходим?
– Под трибунал захотел?
На этом наш разговор оборвался. Прошло еще какое-то время, я, как всегда наедине, думал о Полине, вспоминал во всех подробностях, как мы с ней целовались, как она меня целовала сама, как я ошалел, обезумел от первых женских поцелуев. И негромко запел свою любимую песню:
Летят утки, летят у-у-утки,
И два гу-у-ся.
Стало клонить в сон. Я снимал рукавицу, брал горсть снега и растирал лицо. Иногда для бодрости снова выпускал в ночь несколько пуль из пулемета.
Кого лю-юблю, кого лю-юблю,
Не дожду-уся.
Потом то ли задремал, то ли оцепенел в какой-то бездумности и бесчувственности и вдруг очнулся оттого, что кто-то сильной, жесткой рукой схватил меня за шкирку, другой стиснул шею, горло; еще чьи-то лапы, такие же сильные, жесткие, сцапали мои руки, выкрутили за спину, затянули веревкой. Ничего не понимая, я хотел крикнуть «Кто это?!», но не успел: в рот, раздирая губы, сунули тряпку, затем завязали глаза. Все это в кромешной тьме и тишине, слышно только дыхание каких-то людей и поскрипывание под сапогами снега. Немцы! Берут меня как языка! Пропал!.. Я стал вырываться, ноги у меня были свободны, я брыкался, лягал кого-то, но куда там, немцев было много, они были здоровые, рослые, сильные – я это чувствовал, они зажали мои ноги, подняли меня запросто и понесли куда-то. Я ведь был маленький, легонький.
Пропал! Крышка мне! Только эти мысли, только этот безголосый крик, страх и предчувствие ужасного. Потом, когда немного вернулось сознание, жалко стало себя – не довоевал, не дожил до победы! Баулин придет на смену, а меня нет! Исчез я и больше никогда уж не вернусь в эскадрон, во взвод! «Уволокли фрицы Гайнуллина», – скажет Шалаев. Музафаров в героях будет ходить, ордена заработает, а я…
А немцы несли и несли меня. Только дыхание, только похрупывание снега под сапогами. Я представил, как они меня будут допрашивать. Может быть, в том же доме помещика, в той же комнате. О чем они будут меня спрашивать, что я знаю, кроме того, что я рядовой первого взвода третьего эскадрона?.. Откуда они взялись, эти немцы, подумал я, уже немного в силах осмысливать происходящее, и зачем им нужен язык, когда они все равно драпают? Да они, наверное, собираются прорваться из окружения и им нужно знать, какие части стоят на нашем участке, вот и приползли за языком. А я им совру, что гвардейская пехотная дивизия, номер придумаю, что здесь артиллерия, «катюши», танки, самоходки. Тогда они побоятся сунуться.
Но все же здесь что-то было не так. Шевельнулось сомнение. Почему все время молчком? Ведь уже далеко унесли от наших окопов, могли же фрицы перекинуться двумя-тремя словами. И главное сомнение: не те запахи. У меня был очень хороший нюх, я знал, помнил, как пахнут немцы, я не раз близко соприкасался с ними и живыми и мертвыми. Немцы пахли немцами, у них был свой особый фрицевский запах, запах их мундиров, их пресного табака, ваксы для сапог и, может, даже их пищи, пота и испражнений. А тут пахло нашим Иваном, «копытником» – сырым шинельным сукном, махоркой, лошадью и Худяковым. Худяковым потому, что он переедал и постоянно пускал запахи. Да несли они меня недолго, прошло, ну, наверное, минут десять – пятнадцать, а уже под их сапогами доски стучат. «Разыгрывают!» – догадался я. Подстроили нарочно, чтобы попугать. Думали, я уснул за пулеметом и решили проучить. Я успокоился и в то же время стало обидно. Обидно оттого, что подшутили надо мной так жестоко, несправедливо. Я ведь не спал, задумался только. Спереди я их заметил бы, а они подкрались сзади. А я не услышал, потому как после контузии до сих пор я тугоух. Не покажу вида, что испугался, решил я. Скажу, что догадался сразу. Меня этим не проймешь, я всякое повидал, терпел от злых людей и издевательства, и побои, и ругань, потому что с девяти лет рос без отца и матери. Нет уж, не заплачу, не дождетесь!
Внесли в дом. Я не видел, но сразу узнал по запахам и еще по каким-то приметам ту комнату в доме на хуторе, где расположился наш взвод. Посадили на пол, развязали руки, вытащили кляп изо рта и сняли с глаз повязку. Меня ослепил яркий луч карманного фонаря и хлестнул злорадный голосок сержанта Андреева:

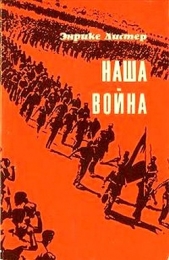
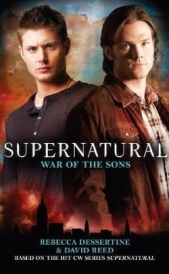


![Архимаг. Колдовская война [трилогия]](/uploads/posts/books/6658/6658.jpg)




















