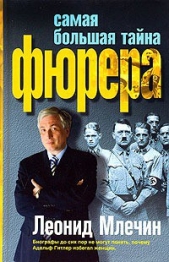На войне я не был в сорок первом...

На войне я не был в сорок первом... читать книгу онлайн
Суровая осень 1941 года... В ту пору распрощались с детством четырнадцатилетние мальчишки и надели черные шинели ремесленников. За станками в цехах оборонных заводов точили мальчишки мины и снаряды, собирали гранаты. Они мечтали о воинских подвигах, не подозревая, что их работа — тоже подвиг. В самые трудные для Родины дни не согнулись хрупкие плечи мальчишек и девчонок.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Оперетта — легкомысленный жанр. Мне по душе серьезная музыка, — солидно высказывается Воронок.
— Ты, Сашок, неправ! — У Мишки загораются глаза. Сейчас они схватятся в словесном поединке. Так бывало не раз. Мне кажется, что в этом споре прав Мишка. Но я не вмешиваюсь в их разговор. Мне стыдно, что я заснул в театре...
Квартира Ивана Михайловича оказалась похожей на музей. Сколько там было картин, статуэток, портретов знаменитых людей с дарственными надписями!
Мы двигались по ковровой дорожке в благоговейном молчании, боясь невзначай задеть какую-нибудь хрупкую фигурку. И все-таки Сашка Воронок умудрился кокнуть небольшую чашечку, на которой были нарисованы скрещенные голубые мечи. Сашка так стремительно кинулся собирать осколки, что со стороны казалось, будто он упал на колени перед Иваном Михайловичем.
— А, пустяки. Сущие пустяки. Посуда бьется к счастью, — небрежно махнув рукой, сказал профессор.
Много лет спустя я узнал, что чашечка эта была из очень редкой коллекции фарфора. За такую чашечку знаток и любитель не задумываясь заплатил бы огромные деньги. Но в этот раз все мы поверили, что разбитая чашка — безделица. Очень уж искренний голос был у профессора.
Ивану Михайловичу не терпелось послушать Мишку. И Мишка оправдал его ожидания. Сначала он пел под аккомпанемент Сашки Воронка. Потом профессор сам сел к роялю и стал играть, посматривая на Мишку счастливыми глазами. Мишка малость освободился от смущения, и его хрустальному голосу уже стало тесно в небольшой квартире.
— Ну, хватит! — сказал наконец Иван Михайлович.
— Да он может еще три часа петь! — закричали мы с Воронком.
Профессор строго посмотрел на нас, и мы сразу замолчали.
Ему виднее. На то он и профессор.
— Согласны стать моим учеником? — спросил Иван Михайлович у Мишки.
— Еще бы! — одновременно сказали мы с Воронком.
— Согласен, — тихо сказал Мишка.
— Предупреждаю — учитель я жестокий. Так требует истинное искусство. Прошу не роптать, если покажется очень тяжело.
Петь — и тяжело. Смехота! Я заулыбался, а Мишка опять повторил:
— Согласен.
— Консерватория в эвакуации. Я вот остался в Москве. Стар стал. Так что заниматься будем у меня. Три раза в неделю. Сможете?
— Смогу.

— И отлично-с! А теперь я угощу вас кофейком. Довоенным.
Мы пили кофе из затейливых чашечек с синими мечами и говорили об искусстве.
— Истинное искусство живет вечно. Ему не страшны испытания временем. В Третьяковку захаживали? Значит, любовались и Репиным, и Саврасовым, и Левитаном. Почему живы эти художники в своих картинах? Потому что их картины — истинное искусство. Когда-нибудь помру и я. Но надеюсь - заметьте, только надеюсь, а не убежден, что останусь жить в своих учениках. В таких, как Миша. Видите портреты? Все это мои ученики. Они приходили ко мне такими же неумелыми и неопытными, как Миша...
Мы с Воронком переглянулись. Мишка — неумелый! Да он сто певцов за пояс заткнет.
— Да, да неумелыми! Сырыми, если хотите знать. Но я делал из них певцов. Таких, которыми может гордиться Россия. Простите мое старческое тщеславие, но мне хочется думать, что это именно так.
Мишка смотрел на Ивана Михайловича, как на бога. Мишка забыл про кофе и слушал профессора, перестав дышать.
— Ну, ну, — сказал Иван Михайлович, — кофе остынет. А вы, други, тоже навещайте меня. Я ведь одинок. Вам это трудно понять. У вас — общежитие. А меня только эти картины.
— Надо было вам эвакуироваться, — сказал Сашка.
— Предлагали. Чуть насильно не увезли. Но, как видите, отбрыкался. Я — старый москвич. Мне без московского воздуха не жить...
Он задумался.
— Есть даже такая болезнь — ностальгия. Тоска по родине. Вот Федор Иванович Шаляпин... Вы думаете, ему было легко вдали от родины?
Мы услышали от Ивана Михайловича много интересного. Мы сидели у него, забыв о времени. Он решил проводить нас и стал одеваться. Обвязал горло пушистым шарфом и тут же спросил Мишку:
— А у вас, Миша, есть кашне?
— Ремесленникам только наушники положены, — сказал Сашка.
Профессор ушел в другую комнату и вернулся с новым шарфом.
— Возьмите, — сказал он Мишке, — вам нужно беречь свое горло.
Мишка пробовал отказаться, но из этого ничего не вышло. Пришлось взять подарок.
Мы спустились по лестнице. Иван Михайлович кивнул на надпись «Бомбоубежище» и спросил:
— У вас тоже есть?
Мы улыбнулись.
— Мы — на крыше, — сообщил Воронок.
— Молодцы! Но все-таки это опасно. Это занятие не для детей. Правда, я и сам не люблю сидеть в бомбоубежище. Очень уж там неуютно. Хотя и люди вокруг. Во время тревог я играю на рояле. Играю Чайковского. Вот кто умел славить жизнь!
— И Шопен! — загоревшись, сказал Сашка. — Я люблю играть Шопена. Такая светлая музыка.
— У поляков был еще и Огинский. Мне бы хотелось, чтобы на моих похоронах звучал его полонез. Грустный и в то же время жизнеутверждающий.
— О, полонез! — сказал Сашка. — Этот полонез и сделал меня любителем музыки.
— «Прощание с родиной» — так, кажется, называется этот полонез, — сказал Мишка.
Родина! Что же это за волшебное слово, заставляющее людей идти на муки и смерть, заставляющее брать в руки оружие и сражаться, пока течет в жилах кровь, пока бьется сердце, пока дышат легкие воздухом родины.
Родина — это и звезды над Кремлем, и ноздреватый хлеб, и музыка Чайковского, и бескрайние поля и леса, и великое братство советских людей. Все это — родина. Наша родина.
Я допишу это стихотворение о родине. Я прочту его Ивану Михайловичу. Пусть он знает, что и я не сбоку припека. А то небось думает, что в компании Мишки и Воронка я всего-навсего третий лишний...
— Замечтался? — Сашка толкнул меня локтем в бок.
— Понимаешь, думал о смысле жизни...
— Фи-ло-соф! Как бы нам с тобой, философ, выпросить у тети Симы по второй порции щей? Что-то после этого благородного кофе аппетит у меня разыгрался зверский. А ночью вкалывать предстоит.
Глава тринадцатая
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ
В ночную работать трудно. Сам не заметишь, как задремлешь над станком, особенно если днем не удалось выспаться.
Борода говорил нам. что до войны подростки не работали в ночных сменах. Но сейчас — война. Станки не могут простаивать. Фронту нужны снаряды.
Не сразу мы привыкли к ночной. В первое время Борода то и дело находил своих спящих питомцев в самых неожиданных местах. Гошка Сенькин, например, старался устроиться с комфортом. Он залезал на верхнюю полку в инструментальной кладовой, клал под голову шинель и начинал задавать храпака. Храпел он с присвистом, с бульканьем.
По этому храпу мастер находил его безошибочно. Борода взбирался по лесенке и тормошил его.
— А? Что? Уже на завтрак? — спрашивал Гошка спросонья.