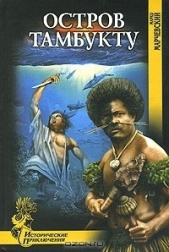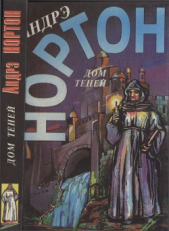Бог создал воскресенье

Бог создал воскресенье читать книгу онлайн
Все произведения этого крупного писателя посвящены Ирландии, ее рыбакам и овцеводам, людям простым и бесхитростным, смелым и благородным. Великолепное знание жизни народа, глубокий психологизм, простота стиля, юмор, свойственные творчеству Мэккина, нашли прекрасное воплощение и в его книге рассказов «Бог создал воскресенье». Его заглавный и самый крупный рассказ — «Бог создал воскресенье», создающий образ рыбака, полный грубоватого, но трагического благородства, свидетельствует о расцвете таланта писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ты меня в мыслях держала, пока его не было. Ишь, что выдумал! Да отец тебя за нос водил, слышишь ты? Не может того быть, сказал Паро. Я тебе богом клянусь, обманул он тебя. Мне никого, кроме Колмэйна, не надо, слышишь ты, Паро? Один он для меня во всем свете. Обманываешь? Правду тебе говорю. Ты мозгами пошевели-ка, Паро. А чего ж тогда твой отец заливал? Чего он мне заливал? Смотрела я, что ли, на тебя когда-нибудь или разговаривала с тобой так, будто ты мне по сердцу? Не-е. Да только он сказал, что отдаст мне тебя. У нее аж голос злой стал. А ну-ка, вставай, Паро, да иди к Муртагу. Иди-ка ты к моему отцу да спроси его, с чего это он тебе врал. Иди к моему отцу, Паро. Я Колмэйна выбрала, и никого другого мне не надо. Слышишь ты? Чего же не слышать, слышу. Я поднялся на ноги. Прислонился к скале. Катриона держала меня за окровавленную руку. Как ты, Колмэйн? Ну, как ты?
Не хотел я, а посмотрел на Паро. Он сидел в пыли. И слезы у него по щекам катились. Самые настоящие слезы. Правда, что пьян был. А все-таки… Слезы текли у него из глаз, и губы он надул, как дитя малое, у которого любимую игрушку отняли. Моран сидел у дороги на каменной изгороди, стонал и тер себе колено.
Ступай домой, Паро, сказала Катриона. Отец дома. Ступай поговори с ним. Паро поднялся земли. Сходить, что ли? Пойди, пойди, пусть он тебе все объяснит, сказала Катриона. Я его спрошу, сказал он. А мне что, уж и не надеяться? Мы с тобой просто соседи, сказала Катриона, а теперь, после того, что ты натворил, я и знать тебя не хочу. И что это за дурость на тебя нашла? Паро стоял, опустив руки. Помотал головой. Нагнулся, подобрал свою кепку. Утер ею глаза. А я-то думал, а я-то думал… И потом еще сказал: это не я камнем тебя зашиб, Колмэйн-Лодкин, это Моран камень кинул. Я б камней не стал кидать. Кабы знать, так я б тебя пальцем не тронул. Эх, нехорошо это! Нехорошо человеку пустые надежды подавать, верно, Катриона? Верно, сказала Кэтриона. Ну, так скажи своему отцу, что больше я ему не помощник, сказал Паро. Нехорошо это. И пошел прочь, большой такой, понурый. Я все еще думал, как бы мне его не так, а эдак. А тут мне Моран на глаза попался. Я подошел к нему. Ну, Моран, теперь тебе не за кого прятаться. Вставай-ка да получи, что тебе причитается. Нет, брось! заверещал Моран. Нет, брось! крикнула Катриона. Ты мне и так коленку попортил, сказал Моран, ногой меня пнул. Он заковылял прочь. Если б не она, я б ему поддал раза. Дрянной был человек этот Моран. Мы ему вслед посмотрели.
У меня на сердце неспокойно было, сказала она. Отец с Паро все шутки шутил. Ничего себе шутки! сказал я. Я с его шуток чуть жизни не лишился. А скоро мы сможем обвенчаться, Колмэйн? спросила она. У меня аж помятые ребра заныли. Ровно через три недели, Катриона, сказал я. И пусть отец не думает, теперь с меня взятки гладки, сказала она. Через три недели, значит, и обвенчаемся. Будь я поцелее, я б тебе тут же сплясал, сказал я. Ты это правда, Катриона? Ты правда? Ведь если подсчитать, так у меня не больно-то много чего есть.
С самого того дня, как я тебя с телком встретила, сказала она, я знала, что у тебя есть для меня самое главное. Я засмеялся, и от этого стало больно голове, но сердце лопалось от счастья. И она промыла мои раны мокрой тряпочкой, и мне было сладостно, что она тут, со мной рядом. И жизнь моя стала полна, потому что теперь одиночество мое кончилось. Да, вот что я хотел еще сказать: свадьбу-то мы играли тоже в среду.
Четверг
Я не раз слыхал, что людям вроде меня о красоте судить не положено. То есть не то чтобы считалось, будто мы красоты природы не замечаем, а не чувствуем ее, что ли. Только разве это возможно — замечать, — да не чувствовать? Но вот господам, которые приезжают из города посмотреть, как простой человек в деревне живет, это, видно, невдомек. Разве тот, кто конфетами торгует, говорят они, знает, из чего они приготовлены? Да бросьте, говорят, откуда ему чувствовать, когда ему все это с детства привычно! Известно им и то, что неоткуда простому человеку образованным быть, когда все школы да университеты от него так далеко, что и не добраться до них, почему и остается ему одна начальная школа, где его учат читать, да писать, да нехитрые задачки по арифметике решать. Случалось мне не раз слышать, как люди грамотные при мне друг другу на красоту заката указывали или там на какое-нибудь облако затейливое, или любовались, как луна в просвет между туч бурной ночью проглядывает, или как лодка по тихому морю плывет. Я вот тут, рядом, а они разговаривают, будто и нет меня. Зря они это.
Жизнь, понимаешь ли, вот настоящая книга. Взял я раз тут одного с собой на рыбную ловлю. Он большим профессором где-то там у себя был. И все он мне про философию говорил. Много он лет проучился и страсть какой образованный был. А я, поверишь ли, его понимал. И многие тут у нас его понимали. Удивляешься? Он не удивлялся. Он говорит: и ничего тут удивительного нету. Потому что, говорит, мы про жизнь книжки пишем, а ты эту жизнь сам живешь. Книжки, говорит, — это просто печатное слово, и рассказывается в них про жизнь человека, и про его разумение, и отчего он так поступает, а не иначе. Все люди в основе одинаковые, хоть белые, хоть какие, и все же все они разные… Я это все к тому, что хочется мне про себя все по совести тебе рассказать.
Красоту я понимал. Бывало, увижу, как горит вечерняя заря над горами, и остановлюсь погляжу. Не оставлял я без внимания и ночного неба, когда тучи залягут по горизонту и небосвод кажется куполом, несчетными звездами усыпанным. Я понял, что такое вечность, в тот день, когда вдруг постиг, что вот я сижу в лодке и ловлю рыбу в воде, которая держится на какой-то вертящейся кубарем круглой планете, что мое тело по какому-то там закону накрепко привязано к земле и что если бы я смог оторваться от земли, то падал бы и падал в пространстве без конца и края. Итак, значит, я понимал, что такое вечность, и мысль о ней не пугала меня. Я понимал вечное обновление природы, потому что сам с того жил, видел красоту в нарождении новой жизни. Зеленая ли былинка вставала после зимних холодов, разворачивался ли первый листок на кусте дикой жимолости, зацветал ли терновник, овсяное ли поле покрывалось зелеными всходами, пробивались ли из земли первые ростки картофеля — все это я примечал и радовался. И то, что все это сводилось в конце концов к куску хлеба, и крову, и урожаю, вовсе не значило, что я за пользой красоты не вижу. Я видел красоту в том, как плодятся все живые твари. Радовался, когда телилась корова, не потому, что потом можно будет продать теленка, а потому, что рождение — это великое таинство, и потому, что оно будит в человеческой душе такое чувство, которое не передашь словами.
А сколько же красоты можно в человеке подметить! Помню, смотрел я как-то раз на ноготочки грудного младенца, и диву давался, и казалось мне, что вся красота, какая только есть на земле, к этим ноготочкам причастна. И не мое то дитя было, как ты потом увидишь; хочу просто я, чтоб ты понял, какими глазами я б на свое кровное дитя смотрел — на свое дитя от Катрионы. Я думал об этом, и казалось мне, что стоит мне взглянуть на свое дитя, и я увижу в нем всю красоту, весь смысл жизни. Пустая то была мечта, но когда ты один в море, ждешь, пока твой невод рыбой наполнится, времени помечтать у тебя хватает. Гляжу я, бывало, на горы неприступные, которые будто прямо из беспокойного моря подымаются, и думаю: вот оно, мое дитя. Озерная гладь, бьющаяся в неводе рыба, вереск в осеннем уборе, жара, пришедшая на смену холоду, вода, искрящаяся на солнце, лет гусей, хрустящий ледок, снег в горах, тысячи паутинок в алмазах утренней росы — все это будет мое дитя, мой сын.
Я с тобой, Пол, о таких вещах могу говорить, потому что верю — это между нами останется, да ты и без меня знаешь — никак сам отец. И потом красоту ты понимаешь и подмечаешь, а уж насчет того, чтобы говорить о ней, это у тебя, ей-богу, куда лучше моего получается, потому что у тебя дар такой есть. Вот что я тебе скажу: пустое это дело — красотой любоваться, если ты не понимаешь, что за ней кроется. Каждому наскучит смотреть на красивое, если он смотрит просто так, утехи ради. Потому, что в нем толку-то, в этом красивом, когда главная его красота не в нем самом, а в том, что оно отражает? Видишь ты, к примеру, лес и горы, отраженные в тихом пруду. Хорошо, ничего не скажешь. Но взгляни подальше, на настоящие лес и горы, — после этого ты на отражение и смотреть не захочешь.