Плач юных сердец
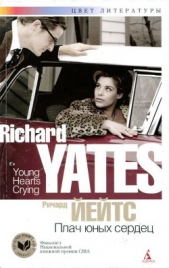
Плач юных сердец читать книгу онлайн
Впервые на русском — самый масштабный, самый зрелый роман американского классика Ричарда Йейтса, изощренного стилиста, чья изощренность проявляется в уникальной простоте повествования, «одного из величайших американских писателей двадцатого века» (Sunday Telegraph), автора «Влюбленных лжецов» и «Пасхального парада», «Холодной гавани», «Дыхания судьбы» и прославленной «Дороги перемен» — романа, который послужил основой недавно прогремевшего фильма Сэма Мендеса с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях (впервые вместе после «Титаника»!). Под пером Йейтса герои «Плача юных сердец» — поэт Майкл Дэвенпорт и его аристократическая жена Люси, наследница большого состояния, которое он принципиально не желает трогать, рассчитывая на свой талант, — проживают не один десяток лет, вместе и порознь, снедаемые страстью то друг к другу, то к новым людям, но всегда — к искусству…
Удивительный писатель с безжалостно острым взглядом.
Time Out
Один из важнейших авторов второй половины века… Для меня и многих писателей моего поколения проза Йейтса была как глоток свежего воздуха.
Роберт Стоун
Ричард Йейтс, Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй — три несомненно лучших американских автора XX века. Йейтс достоин высочайшего комплимента: он пишет как сценарист — хочет, чтобы вы увидели все, что он описывает.
Дэвид Хейр
Ричард Йейтс — писатель внушительного таланта. В его изысканной и чуткой прозе искусно соблюден баланс иронии и страстности. Свежесть языка, резкое проникновение в суть явлений, точная передача чувств и саркастический взгляд на события доставляют наслаждение.
Saturday Review
Подобно Апдайку, но мягче, тоньше, без нарочитой пикантности, Йейтс возделывает ниву честного, трогательного американского реализма.
Time Out Book of the Week
Каждая фраза романа в высшей степени отражает авторскую цельность и стилистическое мастерство. Йейтс — настоящий художник.
The New Republic
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Всего лишь от Нельсонов. И мне показалось, что они на самом деле очень по тебе скучают, Люси; они очень просили меня передать тебе привет.
— Ах да! — сказала она. — Ну, они оба мастера подколоть, правда, эти Нельсоны? Подколоть — в смысле насмехаться, я имею в виду, и в смысле бесконечного жеманного флирта тоже. Сколько лет я не могла этого понять!
— Подожди-подожди. Откуда ты взяла эти «насмешки»? Не думаю, что над тобой хоть кто-нибудь мог насмехаться. Слишком ты крута для этого.
— Да? — И глаза у нее сузились. — Может, поспорим? Тогда слушай: наверное, я никогда этого не показывала — и, пожалуй, это стоило мне немалых усилий, — но иногда, когда я оглядываюсь на свою жизнь, я не вижу там никого, кроме девочки из пансиона, которую все ужасно не любят, над которой все насмехаются, которую все задирают и у которой во всем мире есть только одна подруга — учительница рисования. Может, я даже никогда тебе не рассказывала про эту учительницу рисования, потому что многие годы это был мой секрет, и только потом, когда ты уже ушел, я попыталась написать об этом рассказ… Мисс Годдард. Забавная, тощая, одинокая девушка, немногим старше меня, очень яркая, очень застенчивая и, может даже, лесбиянка, хотя эта сторона вопроса мне тогда в голову не приходила. Но она говорила мне, что у меня прекрасные рисунки, и она искренне это говорила, и для меня это была такая честь, что я едва не теряла сознание. По вечерам мне одной во всей школе разрешалось приходить в квартиру мисс Годдард на рюмку хереса и английский бисквит, и это меня невероятно возвеличивало. Я чувствовала одновременно ужас и собственное величие; можешь себе представить? Можешь представить более поразительное сочетание чувств для такого человека, как я? Единственное, чего я тогда хотела, — это как-то удостоиться, оказаться пригодной для участия в том, что мисс Годдард всегда называла «миром искусства». Какое печальное, вычурное выражение, если задуматься! «Мир искусства»! И раз уж на то пошло, можно заметить, что «искусство» само по себе — досадно ненадежное словечко, верно? В любом случае, думаю, мне бы хотелось предложить еще один тост, если ты не против.
И Люси подняла бокал на уровень глаз.
— Нахуй искусство, — сказала она. — Правда, Майкл. Нахуй искусство, а? Разве не смешно, как мы всю жизнь за ним гоняемся? Чуть не умираем, чтобы только приблизиться к тем, кто, по нашему мнению, его понимает, как будто это может хоть чем-то помочь; то и дело спрашиваем себя, возможно ли, что мы всегда были от него безнадежно далеки или даже что его вообще не существует? Потому что вот тебе интересное предположение: что, если его просто нет?
Он задумался или, скорее, сделал вид, что задумался, разыграв из этого небольшой, но весьма серьезный спектакль, решительно отказываясь поднимать свой стакан.
— Ну нет, извини, дорогая, — начал он, тут же сообразив, что «дорогую» следовало бы из этого предложения убрать, — не могу поднять с тобой этот тост. Если бы я хоть раз решил, что его нет, я бы, думаю… даже не знаю… пустил бы себе пулю в лоб или что-то в этом роде.
— Нет, не пустил бы, — сказала она, опуская бокал на стол. — Ты бы первый раз в жизни расслабился. Бросил бы курить.
— Ладно, может быть. Слушай, вдруг ты помнишь длинное стихотворение, которое было в конце моей первой книги, сто лет назад?
— «Если начистоту».
— Да. Так вот, из-за этого стихотворения меня и пригласили в этот… как его… Бостонский университет. Человек написал мне письмо, чтобы сообщить. Он сказал… сказал, что, по его мнению, это одно из лучших стихотворений, написанных в этой стране после Второй мировой войны.
— Что ж… — сказала она, — что ж, это, конечно, очень… я очень горжусь тобой, Майкл.
И она быстро опустила глаза, вероятно смутившись, что сказала такую глубоко личную вещь, как «горжусь тобой», и он тоже в ответ смутился.
И вскоре они уже снова шли по Кембриджу, стиль которого он перестал понимать, а теперь не стал бы даже исследовать, если бы ему удалось поселиться на бостонской стороне реки. Но ему было приятно идти рядом с такой симпатичной, храброй и прямолинейной женщиной — с женщиной, которая умела говорить откровенно, когда ей этого хотелось, и которая понимала укрепляющую ценность молчания.
Когда они дошли до ее дома, он подождал, пока она не найдет ключи, и потом сказал:
— Что ж, Люси, было очень приятно.
— Я знаю, — сказала она. — Мне тоже понравилось.
Он взял ее за плечо очень нежно и поцеловал в щеку.
— Будь здорова, — сказал он.
— Обязательно, — пообещала она, и в уличном свете он с трудом заметил, что глаза у нее заблестели. — И ты тоже, Майкл, ладно? Ты тоже.
Когда он пошел прочь в надежде, что она смотрит ему вслед, — неужели другим мужчинам тоже хочется, чтобы женщины смотрели им вслед? — ему пришло в голову, что за эти три часа он ни разу не подумал о Саре.
Ну ничего, скоро он снова будет думать только о ней. Слова, которые он записал на фирменном бланке «Шератона», так и лежат там на столе — «Не терзай меня, Сара» — и, вероятно, подверглись уже тщательному изучению со стороны какой-нибудь работающей в ночную смену горничной, которая зашла в комнату, чтобы приготовить ему постель.
Что за никчемная строчка! Слезливая, истерическая, горестная. «Не терзай меня, Сара» было ничуть не лучше, чем «Пожалуйста, не уходи» или «Зачем ты хочешь разбить мне сердце?». Разве люди говорят так в жизни? Или такие разговоры можно услышать только в кино?
Сара была слишком милой, чтобы обвинять ее в том, что она «терзает» мужчину; он всегда это знал. Но в то же время она никогда не была человеком, который позволит разрушить собственное будущее, и это он тоже прекрасно о ней знал.
Скоро, за пятнадцать тысяч миль отсюда, она будет перед сном приводить в порядок их канзасский дом: ребенок спит, телевизор погас и умолк, тарелки помыты и расставлены по местам. На ней будет, наверное, хлопчатобумажная пижама до колен, голубая, с узором из клубничек, — она всегда ему нравилась, потому что открывала ноги и потому что эта пижама значила, что она его жена. Он знал, как эта пижама пахнет. Она наверняка будет думать о том, что они наговорили друг другу по телефону сегодня днем, и маленькая вертикальная морщинка меж ее бровей углубится от замешательства.
До «Шератона» было еще далеко — сияющий красный логотип на крыше был отсюда едва различим, — но Майкл был не прочь пройтись; никто еще от этого не умирал. И он начал понимать, что в том, что он прожил уже полвека, были свои мелкие радости: сама твоя походка воспринималась на улице как знак того, каким умиротворенным и ответственным ты стал; никакой погони за эфемерными вещами больше не будет. Если носить приличную одежду и хорошие ботинки, будешь всегда выглядеть с достоинством независимо от того, есть оно у тебя или нет, и можно даже рассчитывать, что почти все будут называть тебя «сэром». Бар в отеле еще открыт; это хорошо, это значит, что Майкл Дэвенпорт сможет посидеть в его приглушенном свете наедине со своим скептицизмом и выпить перед тем, как подняться наверх.
Может, она приедет и будет жить здесь с ним, может быть, не приедет; имелась и еще одна кошмарная возможность; что она приедет и проживет здесь с ним совсем недолго, в духе временной покорности, ожидая, когда окончательное решение не сделает ее свободной.
«…Каждый человек, по существу, одинок», — сказала она, и он начал понимать, сколько в этом правды. И, кроме того, теперь, когда он стал старше и когда он был дома, конец этой истории, похоже, уже не имел особенного значения.
О Ричарде Йейтсе
Ричард Йейтс — стилистически изощренный автор, но изощренность его выражается в удивительной простоте повествования. Его романы не блещут лексическим разнообразием, не отличаются интеллектуализмом, не играют с формой. В каждой книге он просто рассказывает историю: голые факты, редкие детали, кое-где — эмоции и реакции, иногда — параллели. Истории просты, линейны, почти исключительно биографичны. Но вес их всегда превосходит сказанное в словах, и средствами его нагнетания являются у Йейтса интонация и тонкая, едва заметная концептуализация детали.


























