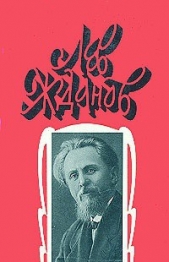Осажденная крепость
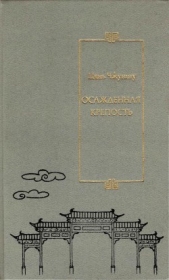
Осажденная крепость читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По-настоящему дружна с Жоуцзя была ее тетка, учившаяся в Америке, — из тех, что зовут чужих детей «ваши беби», а чужую жену — «ваша миссис». Разумеется, Жоуцзя приходилось называть ее «анти» [146]. В молодые годы тетушка достигла успехов, о которых никак не могла забыть, и считала себя вправе строго порицать нынешних студенток. Единственное исключение она делала для Жоуцзя, которая охотно слушала ее воспоминания. Старики Суни побаивались ее и спрашивали ее совета по всем важным делам. Муж ее, некто Лу, был человек донельзя самодовольный и любитель порассуждать о политике. Он был глуховат, люди быстро уставали говорить с ним и прекращали дискуссию, но он не замечал этого и продолжал упиваться собственным красноречием. Супруги работали на шелкоткацкой фабрике: он был главным инженером, она там же заведовала кадрами. Так и получилось, что Жоуцзя стала работать у нее в отделе.
Тетка очень скоро пришла к выводу, что племянница ошиблась в выборе супруга, и уже не скрывала своего невысокого мнения о способностях и познаниях Хунцзяня. У Хунцзяня же после нескольких встреч с нею сознание собственной неполноценности стало возрастать, как цены в военное время. Бездетная тетушка держала пса, таксу по имени Бобби, которого любила больше жизни. Почему-то пес всякий раз набрасывался на Хунцзяня, а тот выходил из себя, слыша при этом неизменную фразу хозяйки: «О, собаки так понятливы, они умеют отличать хороших людей от плохих». Но ударить животное он не смел — как заслуги мужа придают вес его супруге, так положение хозяев делает неприкосновенным их пса.
Стараясь, чтобы Хунцзянь понравился тетке, Жоуцзя посылала его прогуливать собаку, но это не вызывало у него прилива добрых чувств. Однажды он зло бросил:
— Твоя тетка собаку любит больше, чем тебя!
— Не выдумывай!.. Такой уж у нее характер, — не слишком вразумительно ответила жена.
— Не очень-то ее люди жалуют, вот и возится все время с собакой.
— Иные собаки лучше людей, — огрызнулась Жоуцзя. — Бобби и впрямь лучше тебя, он без причины никого не кусает. А таких, как ты, просто нельзя не укусить!
— Ты тоже заведешь собаку, как твоя тетка. А на самом-то деле это мне, неудачнику, стоит обзавестись псом. Родственники мной помыкают, друзей у меня нет, жена… жена часто сердится или не замечает меня… А собака виляла бы передо мною хвостом, я бы знал, что в мире есть существо, которое заискивает передо мной, смотрит снизу вверх. Перед твоей теткой на фабрике лебезят подчиненные, дома ее все слушаются, а племянница так в рот и смотрит. Зачем ей еще собака? Окружают человека и лесть и поклонение, а ему, видно, все мало!
— Помолчи, сделай одолжение! — пытаясь сдержать себя, прошипела Жоуцзя. — У нас не бывает подряд трех спокойных дней. Только недавно помирились — и вот на́ тебе!
— Ишь какая ворчливая! — заметил Хунцзянь, но уже более миролюбивым тоном. То, что он говорил по поводу собаки, было шуткой лишь наполовину. В прошлом году он раскаивался в том, что поехал в захолустье, а теперь вот сожалел, что поддался на уговоры жены и вернулся в Шанхай. В маленьком городке, где все друг друга знали, его пугали интриги, а здесь, в огромном городе, угнетало общее равнодушие — даже интриги, казалось, придавали какое-то значение его существованию. Наверное, даже бактерия гордится, когда ее кладут под микроскоп и начинают изучать. Одинокий среди толчеи, грустный среди общего оживления, он чувствовал себя забытым островком — как и многие другие обитатели «острова» [147].
Ныне, Шанхай был совсем не таким, как в прошлом году. Положение в Европе становилось все напряженнее, и японцы позволяли себе делать на территории иностранных концессий все, что заблагорассудится. Будущие «соратники» Китая, Англия и Америка, в то время всеми способами старались уберечь свой нейтралитет, причем на практике это означало, что они предоставляли японцам полную свободу действий, лишь бы самим удержаться на этом клочке китайской земли. Джон Булль вел себя как теленок, а дядю Сэма следовало бы переименовать в дядю Шэма [148]. Те же, кого Маркс метко назвал «голосистыми французскими петухами», делали то, что подобает делать петухам — кукарекали, обратившись к востоку. Жаль только, что флаг с изображением солнца они принимали за само восходящее светило. Американцы целыми пароходами отправляли железный лом для японских заводов, англичане подумывали о закрытии китайско-бирманской дороги. Французы, — хотя официально они не закрыли границу между Китаем и Вьетнамом, — задерживали на ней китайские военные грузы. Цены взвились вверх, как праведник на небеса. Работники городских служб постоянно бастовали, на трамваи и автобусы впору было, как в отелях, вешать таблички «мест нет». Оставалось пересылать людей разве что по почте — так необходимые для этого почтовые марки из-за исчезновения медных денег стали использоваться в качестве разменной монеты.
Борьба за существование сорвала с себя маску и всякую косметику — предстала в своем первобытном виде. Совесть для многих стала не по карману. Выросло число банкротов и нуворишей, нажившихся на бедствиях страны. Но эти две категории людей не соприкасались друг с другом: нищие просили милостыню на тротуарах, они не могли попасть за ограды вилл, не могли остановить обтекаемые лимузины. Районы трущоб все разрастались — казалось, лицо города покрывается струпьями. Чуть ли не каждый день совершались акты политического террора. Патриотам приходилось уходить в подполье, как прячется под землю транспорт в западных столицах. Но там, в подполье, к ним из корыстных соображений примазывались разные непонятные существа — не то люди, не то черви. В газетах, ратовавших за «мир между Китаем и Японией», печатались списки новых «миролюбцев»; правда, в других газетах эти предатели заявляли, будто «не занимаются политикой».
На пятый день по прибытии Хунцзянь отправился к редактору Китайско-Американского агентства печати. Синьмэй письмом из Гонконга позаботился об этой встрече. Не желая прибегать к посредничеству тестя, Хунцзянь один подошел к большому зданию, в котором на третьем этаже размещалось агентство. Табличка на лестничной клетке предупреждала, что до четвертого этажа лифт не останавливается. Один поэт танской эпохи советовал тем, кто хочет видеть на тысячу ли, подняться на следующий ярус башни. Фан помнил эти строки, но совету не последовал, а пошел вверх по лестнице. А вот горьких слов Данте о том, как тяжелы для просителя ступени в чужом доме, он не знал. После двух этажей он перетрусил и всей душой пожелал, чтобы эта лестница подольше не кончалась, дала ему время прийти в себя.
Но вот открылась и захлопнулась за ним дверь на пружине, и Хунцзянь оказался в помещении. Длинный прилавок, похожий на те, что устанавливают в банке или в почтовом отделении, только без медных поручней, отделял сотрудников агентства от посетителей. Напротив входа за столом сидела молодая женщина и покрывала лаком ноготь на безымянном пальце, украшенном кольцом с бриллиантом. На вошедшего Фана она даже не взглянула. В другое время Хунцзянь, возможно, удивился бы тому, что ногти сотрудника редакции испачканы не чернилами, а ярко-красным лаком, но сейчас ему было не до того. Он снял шляпу и спросил, как повидать редактора. Та величественно приподняла голову, смерила Фана суровым взглядом и, скривив губы, указала налево и вновь занялась ногтями. Повернувшись влево, Фан увидел маленькое окошечко, какие бывают в железнодорожных кассах, с надписью «Приемная». Заглянул в окошко-там парнишка лет шестнадцати разбирал корреспонденцию.
— Виноват, могу ли я видеть главного редактора господина Вана?
— Он еще не приходил, — буркнул парень, не отрываясь от писем, причем затратил на эту фразу ровно столько мышечных и нервных усилий, сколько было нужно для того, чтобы Фан с трудом разобрал сказанное. Хунцзянь растерялся: