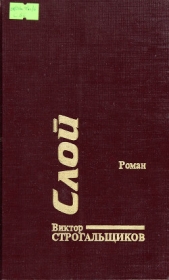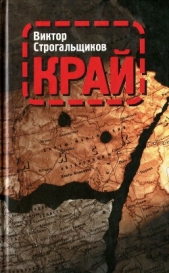Стыд

Стыд читать книгу онлайн
Полная версия нового романа Букеровского номинанта, победителя Первого открытого литературного конкурса «Российский сюжет».
Главный герой, знакомый читателям по предыдущим книгам журналист Лузгин, волею прихоти и обстоятельств вначале попадает на мятежный юг Сибири, а затем в один из вполне узнаваемых северных городов, где добываемая нефть пахнет не только огромными деньгами, но и смертью, и предательством.
Как жить и поступать не самому плохому человеку, если он начал понимать, что знает «слишком много»?
Некие фантастические допущения, которые позволяет себе автор, совсем не кажутся таковыми в свете последних мировых и российских событий и лишь оттеняют предельную реалистичность книги, чью первую часть, публиковавшуюся ранее, пресса уже нарекла «энциклопедией русских страхов».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Заметив готовность Лузгина вмешаться в разговор, сказал опережающе:
— Я понимаю, понимаю: дети, внуки… Я их люблю, я за них голову отдам, не раздумывая, но это все другая жизнь, другая, Володя. Это жизнь старичка на скамейке с палочкой. А пока жива Нина, пока живы мои товарищи, я еще не с палочкой, нет! — Иван Степанович мелко потряс согнутым пальцем перед носом Лузгина и снова стал похож на Грозного Ивана. — Странное дело: смерти самой не так боюсь, как этой проклятой пустоты. Хотя и смерти, ясное дело… Я же тебе говорил про злорадство. Вот так все в человеке рядом уживается.
— Ты брось, Степаныч, эти разговоры, — сказал Лузгин, подчеркнуто нахмурившись. — Я еще понимаю: на ночь всякое в голову лезет, но утром-то, утром!
— Глупый ты, — сказал ему старик, — утром-то оно как раз и лезет. Проснулся — жив, и начинаешь размышлять, почему. Это у вас день пережил — и хорошо, а у нас по-другому: у нас задача — до утра дожить, не померев, а там уже и размышлять можно, целый день как-никак впереди.
Лузгин тут же брякнул, не шибко подумав:
— Гулько же умер днем.
— А его отпустило. Всегда бывает… Ну, не всегда, а часто: возьмет и отпустит накануне.
— Если так, то это… милосердно.
— Опять ты ни черта не понимаешь. Если оно так идет и идет, то рано или поздно ты уже смиришься. Но дать надежду человеку и тут же его обмануть!.. Подлость это, а не милосердие, Володя. Писатели так любят: только герой перемучился, только у него все наладилось, и тут его — бритвой по горлу. Терпеть такого в книжках не могу. Ведь подло это и несправедливо, так нельзя…
— Закончим тему, — предложил Лузгин. — А не пора ли нам?..
— Как скажешь.
Не нравилось все это Лузгину: и утреннее настроение старика, и его ночные бдения в гостиной у телевизора с выключенным звуком. Вот и нынешней ночью, проснувшись словно от толчка, — такое с ним случалось, и все чаще, а ведь еще недавно спал и ровно, и протяжно, — он увидел сквозь граненое стекло кабинетной двери зловещее мерцание экрана, словно бы в гостиной шел холодный химический пожар. Он давно хотел поговорить об этом с Ниной Никитичной, да все откладывал, все было не с руки, так и не поговорил, как не сказал и старику про Славку Дякина, не передал Земнову (где его найдешь) условие Махита, а Вальке Ломакину не сообщил о записи в «машинке», да и «машинку»-то саму и папку с документами пока что не вернул Сорокину (благо, майор после сцены в ресторане на связь не выходил). Все как-то повисло в странном равновесии, но Лузгин чувствовал, что это ненадолго, что скоро все начнет стремительно валиться и уходить из-под ног, и все узлы развязать не удастся, придется рвать, придется жертвовать или разменивать фигуры, одной из которых был он сам, так не любивший ни рвать, ни разменивать и вечно полагавшийся на непременный, не раз его в жизни спасавший авось.
На перроне было шумно, ветрено и холодно, и Лузгин застеснялся сбившихся в кучку духовых музыкантов, мерзнувших здесь по его, Лузгина, и прочих парадно отъезжающих вине. Старику полагался «генеральский» вагон, где ехало начальство, но Степаныч уперся и потребовал место с друзьями, Кузьмичом и Лыткиным, и чтобы Лузгина тоже расположили рядом с ним, а не в вагоне прессы. И этот, казалось бы, вполне демократичный выверт старика обернулся беготней и хлопотами: людей гоняли по купе, переселяли, отселяли; а между тем Лузгин переминался на морозе под омерзительные дудки, не в лад рыдавшее «Прощание славянки», и угнетал себя вопросом: почему это мелкий чиновник, суетившийся вокруг насчет их размещения в вагоне, все чаще колол взглядом именно его как главного инициатора возникших беспорядков.
Однако сели. Они со стариком — в двухместное купе без верхних полок, Кузьмич и Лыткин — в такое же рядом, вперед по движению поезда. И только лишь это движение обозначилось плавным отходом, как в двери возник Лыткин и дернул подбородком вверх и вбок, как делали это в советском кино белые штабс-капитаны, вечно страдающие нервным тиком. Ох, и права была Нина Никитична, подумал Лузгин, пряча взгляд под лавку. Старик поворочался, покряхтел и буркнул Лузгину:
— Ладно, пошли, что сидеть-то…
— Да мне и здесь хорошо. — Лузгин обвел ладонью купейный столик, загодя уставленный дорожным сухпайком: бутылка коньяка не из дешевых, фляжка минералки, уже чуть тронутые временем бутерброды с икрой на тарелке (могли бы салфеткой прикрыть), два термосика с надписями «чай» и «кофе» и соответствующий жидкостям набор сосудов — две рюмки, два фужера и два милых сердцу граненых стакана в подстаканниках с претензией на серебро. Ближе к краю, под стопкой салфеток, таился небольшой пластмассовый контейнер, содержимое которого еще предстояло разгадать и оценить.
Иван Степаныч, хмыкнув, ушел в соседнее купе, забыв, естественно, притворить за собой катающуюся дверь. Лузгин в рассеянности пялился в оконное стекло, где тянулось серое, черное и белое, и вяло на него, Иван Степаныча, сердился — за раззявленную дверь и постыдный спектакль на перроне, обрекший Лузгина на одинокое сидение дураком. А мог бы сейчас весело катить в вагоне прессы под журналистский треп, привычный словно водка, и вечно свежий как та же водка вновь. Он знал, что в одиночку просидит недолго: допьют бутылку и придут за этой, уже о чем-нибудь изрядно разругавшись, потянут Лузгина к себе — в качестве рефери в споре и тут же втроем и набросятся, определив его в единоличные ответчики за нынешнюю жизнь. Такое случалось и раньше, Лузгин почти привык к своеобразной этой дедовщине и даже, бывало, находил и формулировал приемлемый ответ, но только в частностях, не умея, да и не желая приближаться к целому; и это парадоксальным образом напоминало ему встречу в Казанлыке с главарем пришедших с юга моджахедов генералом Гарибовым, с чудовищным спокойствием задававшим ему очень простые вопросы, на которые Лузгин так же просто ответить не мог, но задней мыслью полагал, что на простой вопрос должен быть и где-то существует подобный же простой и всеобъемлющий ответ.
Еще и часу не прошло, а ехать предстояло все четыре, как в незамкнутом дверном проеме нарисовался экс-бурмастер Лыткин и размашисто его поманил. Лузгин как раз прочел до половины захваченный в дорогу новый выпуск столичного журнала «Элита», наткнулся в нем на большой очерк про Геру Иванова, румяного и гладкого на хорошо отретушированном большом фотопортрете, и вознамерился читать и далее подробно и ехидно, но спорить с Ефимом Захаровичем было себе дороже. Прихватив коньячную бутыль, Лузгин поднялся и сделал рукой: после вас, — за что был удостоен поощрительного взгляда.
Старики ругались о судьбе созданного в шестьдесят пятом году прошлого века «Главтюменнефтегаза». Впрочем, ругался по большей части Кузьмич Прохоров, уже подвыпивший и пунцовый, адресуясь к нехорошо бледневшему от крепкого Ивану Степановичу. Уперлись, как всегда, в извечных два вопроса: кому и почему было выгодно разрушить главк в конце восьмидесятых, и мог ли «Главтюменнефтегаз», останься он в живых, изменить историю и результаты грянувшей вдогонку нефтяной приватизации.
— Вот ты скажи, — распорядился Прохоров, забирая у Лузгина бутылку, — вот ты же знал министра… — Кузьмич назвал фамилию бывшего тюменского начальника, возглавлявшего нефтяную отрасль в начале сумасшедших девяностых.
— Он мог на это дело повлиять?
— Не мог, — сказал Лузгин, — хотя пытался.
— Не так уж и пытался, — сказал старик, показывая Кузьмичу, чтоб тот не наливал по полной.
— Ну, вы не правы, — возразил ему Лузгин. — Так получилось, что в те годы я с ним часто виделся и разговаривал. Как раз создавались первые — так называемые вертикально интегрированные — нефтяные компании…
— Его для этого дела и поставили министром, — ехидно уточнил старик.
— Согласен, для этого дела. Однако госпакеты акций в компаниях тогда были огромными. По сути дела, все компании принадлежали государству, но беда была в том, что госпакетами этими распоряжалось не нефтяное министерство, а комитет по госимуществу.