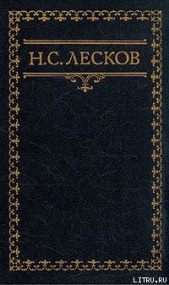Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
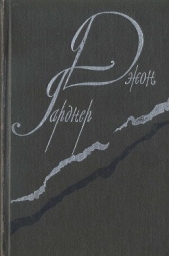
Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы читать книгу онлайн
Проза Джона Гарднера — значительное и своеобразное явление современной американской литературы. Актуальная по своей проблематике, она отличается философской глубиной, тонким психологизмом, остротой социального видения; ей присущи аллегория и гротеск.
В сборник, впервые широко представляющий творчество писателя на русском языке, входят произведения разных жанров, созданные в последние годы.
Послесловие Г. Злобина
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Джонатан! — крикнула она мне вслед.
— За книгами вот зашел, — объяснил я старому Иеремии, столкнувшись с ним в дверях.
Он откинул голову, изумленно вздернул брови, во все уши прислушиваясь к моим торопливым шагам.
Книги, как я обнаружил, добравшись до своей койки, были малоинтересные. Делоренсовское мошенническое пособие по индийскому искусству заклинания змей; учебник для младших классов по истории; сборничек стихов (религиозных); иллюстрированный справочник «Величайшие негодяи мира». Я сунул их в свой тайник под выдвижной дощечкой в переборке, имея в виду рассмотреть их внимательнее на досуге (изучить их, налюбоваться ими вдоволь, ведь они принадлежали ей!), а сам поспешил обратно на палубу, где, пьяный поцелуем Августы, немедленно о них позабыл.
Одна черта в поведении капитана Заупокоя вызывала особое изумление. Как ни чувствителен он был к шуму, свету, вони и суете, не было случая, чтобы он пропустил встречное судно, не окликнув его и не побывав на нем с визитом. Это было бы странностью даже для совершенно здорового китобойного капитана. Конечно, принято общаться со своими собратьями — охотниками за левиафаном, обмениваться почтой и сведениями о местонахождении дичи, но никто не будет останавливаться ради каждого встречного и поперечного. Какой вопрос он там выяснял, я не знал, как не знал и того, почему, отправляясь с этими визитами, всякий раз он берет с собой пустую сумку, а когда возвращается, она у него чем-то набита (на что первым обратил мое внимание Билли Мур); но не было сомнения, что, посещая канонерки, купеческие шхуны и прочая, уходя на вельботе с командой чернокожих гребцов и с Иеремией на корме — как всегда подле своего понурого, согнутого болезнью капитана, — он, капитан Заупокой, имел на то свои, самые серьезные основания.
Визиты эти, по-моему, ничуть не меньше, если не больше, значили и для слепого Иеремии. С той самой минуты, как незнакомое судно появлялось на горизонте, задолго до того, как кто-нибудь успевал оповестить его об этом, в поведении старика появлялись какие-то нервические странности. На него можно было наткнуться где-нибудь в самом дальнем углу — он стоял и бормотал что-то себе под нос с самозабвенной улыбкой на лице, словно вступил в непосредственное общение со святым духом. А когда подходил срок спускать вельбот, чтобы плыть и взойти на борт незнакомца, любая оплошность, любое нарушение протокола — и Иеремия, в обычное время сама кротость, тут вдруг впадал в неистовство и готов был пинать всех, кто подвернется. Он был похож на актера-трагика, который перед выходом на залитую прожекторами сцену в последний раз подтягивает перчатка и дергает носом, чтобы поправить усы. Но, ступив на палубу незнакомца (я сам видел, я следил за ними в бинокль из вороньего гнезда), они как бы менялись ролями, и теперь уже капитан, а не Иеремия походил на актера, жестикулировал и что-то говорил, почти и не опираясь на слепого.
Для Августы эти встречи и поездки тоже имели какое-то важное значение. Почему-то они внушали ей страх. Все время, пока капитан с Иеремией отсутствовали, она без умолку болтала вздор, стараясь отвлечься, но вдруг на полуслове вздрагивала и заламывала бледные руки.
— Ах, Джонатан, Джонатан, — сказала она мне как-то, — ну что они там делают? Почему так долго? — Она держала меня за руку, ее била лихорадочная дрожь. (Дела между нами зашли уже достаточно далеко.)
— Да просто проводят время в свое удовольствие, — ответил я со смехом, чтобы ее успокоить.
— Это преступление! Для человека в таком состоянии, как отец… Ах, если бы мне быть птичкой, я бы полетела туда и подсмотрела!
Я опять засмеялся и стал целовать кончики ее пальцев, хотя сам в глубине души чувствовал, что чего-то здесь недопонимаю. Слишком все как-то эффектно получалось. И этот самоотверженный порыв, и платочек, который она сжимает тремя пальцами той руки, что лежит у меня на ладони. Уголком левого глаза, который у меня косит, я видел, что она смотрит в зеркало, внимательно, как театральный критик, следя за нашей сценой.
— Августа, — позвал я ее. И, не сдержав удивления, воскликнул: — Да ты же рада-радешенька!
Она прижала руки к сердцу, и слезы хлынули потоком.
— Джонатан, ну как ты мог?
В этот миг у меня возникло безотчетное убеждение, что я давно уже знаю об Августе нечто такое, некую ужасную истину, которую призваны скрывать от меня и эта ее бледность, и дрожь, и немощь. Но, встретив ее взгляд, я тут же поверил, что все это мне помстилось, и прогнал от себя такие мысли.
— Не сердись, — сказал я. — Страх и радостное возбуждение проявляются сходно, вот я и обманулся. Прости.
Я поцеловал ее в щеку. И через некоторое время был прощен.
Но вечером, когда я лежал у себя на койке, окруженный тьмой и безмолвием, если не считать храпа моих спящих товарищей матросов, то же чувство вновь посетило меня, и я похолодел с головы до ног. Я никак не мог в нем разобраться. В нем присутствовал страх, это было ясно, но откуда он, непонятно, уж конечно, не от этого прелестного матового лица, не от этих сияющих глаз. Однако страх все возрастал, словно в кошмарном сне, когда тебе со всех сторон угрожает опасность, замаскированная, неумолимая.
И вдруг я, вздрогнув, почувствовал — или, может быть, это тоже во сне? — что в темноте кто-то стоит возле моей койки и что-то или кто-то тянется прямо к моему лицу. Я отпрянул, но сразу же безотчетно выбросил перед собой руку и одновременно закричал. Пальцы мои сомкнулись вокруг какой-то безволосой обезьяньей лапки, влажной, маленькой и холодной как лед. Я тут же разжал их. Я больше не кричал — я вопил. Возле толпились мои переполошенные товарищи, задавали вопросы. Так, значит, это действительно был сон, с великим облегчением подумал я. Но тут раздались убегающие шаги. «Слышите?» — воскликнул я. Однако все утверждали, будто ничего не слышат.
В один из тех дней бывший пират-хитрюга Уилкинс заметил:
— С чего бы это нашему капитану раз за разом все сворачивать к югу?
Я тогда работал у помпы. Мы получили небольшую и вполне безопасную пробоину, и второй помощник Вольф с командой своего вельбота латал ее. Уилкинс как раз сидел отдыхал, раскинув ноги, точно большая лягушка-оборотень в красной головной повязке, зловеще поблескивая глазами в свете нактоузного фонаря, — он ждал очереди сменить меня. Он то и дело сжимал и разжимал кулаки и колотил себя по коленям. И говорил:
— Куда бы мы ни держали курс, на север ли, на запад или на восток — прошу всемилостивейше обратить внимание, — старик всегда снова сворачивает к югу, имея своей целью, если не ошибаюсь, пункт на пятьдесят втором градусе тридцать седьмой минуте и двадцать четвертой секунде широты и на сорок седьмом градусе сорок третьей минуте пятнадцатой секунде долготы.
Я повернул голову и снизу взглянул на него. В последнее время я пытался уверить команду, что на самом-то деле я раньше был могильщиком. Иногда, мол, я копал для божьего храма, а то и для какого-нибудь костоправа — мне все едино. А что я раньше врал, так это потому, что не хотелось сознаваться, к какой вурдалачьей профессии принадлежу. (Это я говорил, потупясь и закатив глаза, — ни дать ни взять жалкий грешник, снедаемый муками совести.) А чтобы придать новой версии правдоподобие, я стал ходить нахмуренный, понурый, то и дело испуская прежалостные вздохи.
Уилкинс ухмылялся, попыхивая трубкой, и от этой ухмылки к его поблескивающему правому глазу тянулась глубокая черная борозда. В тени за шпилем сидели две крысы и облизывали лапки, поглядывая на Уилкинсовы ужимки.
По совести говоря, я уже и сам обратил внимание на то, что Старик периодически возвращается на одно и то же место. Правда, мои наблюдения были не столь точны. Я, должен вам заметить, уже не был тем новичком, который, задрав голову, несколько месяцев назад напрасно разыскивал на ночных небесах хоть одно знакомое созвездие. Проведя много часов в вороньем гнезде или на вантах за разговорами с моим рыжеволосым другом Билли Муром, я благодаря его наставлениям и книгам капитана сделался чуть ли не настоящим астрономом. Я узнавал в лицо любой небесный светоч и космический проблеск от Андромед до Пегасов. Выучил по книгам про звезды переменной яркости, про черные звезды, про звезды-близнецы и про таинственные так называемые блуждающие звезды. Голова моя была до самой верхней палубы набита сведениями, и я возносил их ближе к небу всякий раз, как поднимался на мачту. Там они переставали быть просто мертвыми сведениями и становились поющими частицами вселенной среди объятой сном черноты. И я постигал то, что неведомо людям, которые не умеют раствориться в безбрежной дали океана или в царстве лесов, уходящих зелеными аркадами за тридевять горных хребтов. Я научился воспринимать пространство и время не умом и волей, а более таинственными путями, как понимают друг друга старые супруги или как деревья в долине знают о передвижении малой птахи или паучка. Началось все на вполне сознательном уровне. Помню, я учился определять точное время по звездам, стараясь учитывать при этом меняющееся местонахождение судна. Расчеты эти мне плохо давались, я с завистью смотрел, как легко Билли Мур задирал к небесам рыжую бороду и с ходу бросал мне, будто перчатку, время и наши координаты. И вдруг в одну прекрасную ночь, я словно пробудившись ото сна, понял, что тоже так могу. Все мироздание, обращающееся вкруг меня не как циферблат, а, скорее, как большая, медлительная птица; наше судно, движущееся подо мной размеренно и осторожно; мое сознание в самом центре этого осторожного, как бы вслепую, искания, подобное мысли бога (я имею в виду не отвлеченное божество, творящее суд и прорицание, а того бога, что вечно катит вперед с усмешкой на устах), — все мироздание стало продолжением моей души, моим последним пространственно-временным местонахождением, так что определить позицию шести кубических футов пространства, занимаемых моей внутренней плотской оболочкой, относительно остального мира оказалось не труднее, чем положение моего левого косящего глаза относительно моих же пальцев на ноге. Все это, быть может, кое-кому покажется чистым бредом. Но факт таков — мои слова вам подтвердит любая ворона, — что сознание всегда знает, где находится, покуда не задумается об этом.