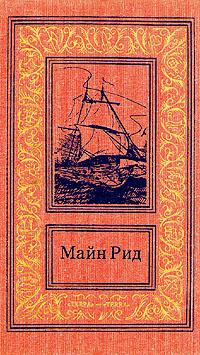Дорога в Санта-Крус

Дорога в Санта-Крус читать книгу онлайн
Богомил Райнов – болгарский писатель. Он писал социальные повести и рассказы; детективно-приключенческие романы, стихи, документально-эссеистические книги, работы по эстетике и изобразительному искусству. Перед вами его книга «Элегия мертвых дней».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Видишь, никого нет! – в который раз повторял мой брат, показывая на спущенные жалюзи.
– Там они, – настаивал слуга. – Обойщик их видел.
Там они или нет – этот вопрос волновал и собравшуюся во дворе публику. Чтобы ответить на этот вопрос, кто-то решил поднять жалюзи и открыть дверь. Однако дверь оказалась запертой изнутри, а окно задернуто занавеской.
– Ломайте дверь! – воинственно крикнул обойщик.
Однако никто не осмеливался взломать дверь, и вообще энтузиазм публики, успевшей устать от столь долгого ожидания, начал остывать.
– Если они там, все равно выйдут, а если нет, не выйдут, – изрек сапожник и, повернувшись, зашагал к мастерской. Его примеру последовали другие. Толпа стала редеть.
И тогда прелюбодеи вышли. Не вышли, а выскочили, дама впереди, как этого требует этикет, кавалер – за ней.
И хотя выход был стремителен, публика из кафе сразу же бросилась за беглецами.
– Куда бежишь, подлец? Иди сюда, пусть на тебя люди посмотрят! – кричала опозоренная супруга.
– Врежь ему, задай трепку этому типу! – взывал обойщик к рогоносцу.
Но тот словно оцепенел. Он растерянно смотрел на бегущих, как будто удивляясь тому, что его жена может так быстро бегать, несмотря на толстый зад. До тех пор он, видимо, надеялся, что в парикмахерской никого нет.
Через несколько дней я посетил обманутого супруга, чтобы вручить ему карточки.
– Ваша жена с вами живет? – спросил я, усевшись за полированный стол в гостиной, в той прозаической гостиной, о которой уже шла речь, с гобеленами в бронзовых рамках и плюшевыми креслами в пожелтевших полотняных чехлах.
– Ушла.
– Я спрашиваю, потому что нужно заполнить графу.
– Ушла.
После того, как я дал ему карточки и убрал в портфель бумаги, он повторил еще раз:
– Да, да, ушла.
Многозначительно покачав головой, он посмотрел на меня так, словно я был не просто чиновник, раздающий карточки, а Общество с большой буквы:
– Как меня ославил этот обойщик!
Он протянул мне руку именно в тот момент, когда я бормотал:
– Да разве он вас опозорил, по-моему, это она…
Я не окончил фразу, потому что увидел, как его рука сжимается в кулак, и испугался, что сейчас он ударит меня. Белая жирная рука наконец опустилась. Хозяин добродушно похлопал меня по плечу:
– Ну-ну, не надо! И ты, как все, суешь нос не в свои дела… Она хорошая женщина… и хорошая хозяйка… но ты еще молодой и многого не понимаешь…
Я действительно ничего не понимал. То, что парикмахер сошелся с женой после скандала, никого не удивило. У них это был не первый и не последний скандал. Хотя бы из-за детей и чтобы не остаться на улице, супруга должна была пойти на мировую. Но вот то, что этот толстый флегматичный человек тосковал по женщине, которая сделала его посмешищем, что он готов был простить ей измену, что не мог жить без нее, причем в том возрасте, когда женщина перестает быть предметом первой необходимости, этого я понять не мог.
Прелюбодейка ушла к маме… Таким образом она отдыхала от домашних обязанностей и мстила супругу зато, что он осмелился устроить ей ловушку. Она мстила ему и тем, что появлялась в компании молодых людей, готовых провести с ней ночь, предаваясь удовольствиям, которые сулила се зрелая и обильная плоть. Но кульминацией мести было заявление о разводе и молва о том, что она собирается замуж. Тут супруг окончательно сдался. Отказавшись от стыдливых попыток вести переговоры через посредников, он лично явился к изменнице просить прощения и в конце концов, как и следова ло ожидать, был помилован. Она снова появилась в нашем квартале, ослепляя всех туалетами и движениями задних частей, и никто не смел смеяться над ней, потому что она вернулась не как раскаявшаяся грешница, а как победительница. Смеялись над рогоносцем.
Этого я не мог понять. И мне никогда не пришло бы в голову так закончить свой рассказ. И никогда мне не пришло бы в голову многое другое, чего я не понимал. В сущности, урок, полученный мною в те времена, когда я занимался раздачей карточек, сводился к следующему: я убедился, что не знаю людей.
В этом я все больше убеждался по разным поводам и при разных обстоятельствах. Так было и в случае с моим другом скульптором. С ним и еще с одним художником мы подрабатывали, малярничая на частных квартирах. Он был невысокий, но крепкого сложения, такой, каким должен быть настоящий скульптор. Вся его фигура, выражение лица говорили о силе и дерзости. Больше всех на свете он не любил полицейских. Эта нелюбовь родилась после того, как во время одной демонстрации его арестовали и избили в участке так, что он едва выжил.
Бывало, мы красили оконные рамы и скульптор, завидев полицейского, начинал громко распевать «Марсельезу».
– Зачем ты нарываешься на неприятности? – спрашивал художник.
– Позволь и болгарской полиции знать французский, – вмешивался я.
Полицейский, озадаченный агрессивной интонацией песни, иногда останавливался, поднимал голову, смотрел на нас, но ничего не предпринимал, потому что интонация – нечто недостаточно определенное, чтобы мотивировать ею арест.
И вот однажды, через год или два, я увидел скульптора на улице. На нем была темно-синяя полицейская форма с золотыми капитанскими погонами и аксельбантами, лакированные сапоги. Сначала я подумал, что обознался: скульптор-полицейский был от меня на значительном расстоянии. Но он тоже заметил меня и неловко улыбнулся. Я беспомощно оглянулся, охваченный глупым желанием спрятаться, но поскольку прятаться было некуда, попятился и, наверное, повернул бы назад, если бы не мое врожденное упрямство: «Почему я должен возвращаться? Пускай возвращается он». Так я и прошел мимо него, глядя куда-то поверх его головы.
А ведь он был крепкий и сильный человек, такой крепкий и сильный, что я мог бы поспорить – сломить его невозможно, даже переехав трактором. Но вот же, сломили. И не трактором, а мелкими посулами и… лакированными сапогами.
Этого я не понимал. Как не понимал и ту маленькую, стеснительную девушку, которую иногда встречал на наших кружках и молодежных сходках. Вообще-то, я не обращал на нее внимания, потому что она была не из броских, а из тех, что обречены жить и умереть в тени. Прожила она совсем мало: ушла в партизанский отряд и погибла в бою. А мне-то казалось, что она несмелая и тихая, из тех, кто и муравью уступает дорогу.
Я думаю, что настоящий писательский труд начинается с того простого открытия, что ты не знаешь людей, да и потом его сопровождает мысль: ты все еще не знаешь их, не понял до конца. Кто думает, что знает все, не испытывает потребности искать, а литература – это поиск, разумеется, успешный поиск, но окажется ли он успешным, этого никто не может обещать заранее.
Бессонными ночами и в часы одиночества все эти истории, свидетелем которых мне довелось быть в нашем квартале, в нашем городе, всплывали в памяти помимо моей воли. Я думал о них просто так, как думаешь над ребусом, чтобы убить время. По крайней мере тогда мне и в голову не приходило использовать их как темы. Мне казалось, что нетрудно придумать что-нибудь поинтереснее, чем эти городские драмы. В душе я все еще надеялся, что напишу интересную книгу. Она будет начинаться именно так:
«Дорога в Санта-Крус узкая и размытая дождями, но самым неприятным было не это…»
Я надеялся, что напишу роман, для которого пока что был готов только вступительный пассаж. Надеялся, хотя был ярым сторонником социального искусства. В кафе «Средец» мы только и говорили об этом социальном искусстве, спорили о принципах социалистического реализма. Но я был убежден, что социалистический реализм – это не обязательно описание только житейской прозы, что если искусство преподносит тебе то же самое, что преподносит и жизнь, то от такого искусства нет никакой пользы.
Мой друг Макето, который тогда учился в Академии художеств, приехал как-то в свое село. Родители как раз только что побелили комнаты.
– На этой стене я нарисую тебе большую картину, – сказал Макето сестре, хотел обрадовать ее.