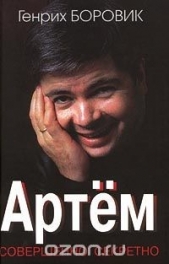а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сюрпризы начались на самом конкурсе.
В раковине сцены на танцплощадке установлен всего только один микрофон. Это – раз.
Нашему дуэту нужно как-то называться. Это – два.
Второй секретарь горкома предложила на выбор: «Солнце» или «Трубадуры».
Из двух зол выбирай которое покороче.
Засунуть микрофон в акустическую гитару не так-то просто. Нужно отпустить две тонкие струны снизу и под ними впихнуть его в дыру деки. Затем снова настроить отпущенные струны. Но как теперь докричаться со своим объявлением до микрофона под декой?
После инструменталки та же тягомотина, но в обратном порядке, с доставанием микрофона из гитары.
Владя запаниковал: «да пошли они!», а я начал его убеждать, что обратной дороги нет, раз мы припёрлись сюда со своими гитарами; или мы, типа, их просто выгуливаем?
И тут нас позвали на сцену.
Владя заиграл басовую партию, стараясь приподымать гитару поближе к микрофону, в который я объявлял, что мы вокально-инструментальный дуэт «Солнце».
Потом я опустил микрофон к его гитаре, чтоб на танцплощадке услыхали и убедились, что это всё-таки «Шоколадóвый Крем»; но, удерживая микрофон, я уже не мог сопровождать его бас-партию как ритм-гитара.
На втором номере всё вроде вошло в нормальное русло.
Мы оба звенели гитарами, Владя пел, я смотрел поверх голов толпы, как учила Раиса Григорьевна…
Но после куплета с припевом Владя вдруг обернулся ко мне и, округлив глаза, выстонал:
– Я слов не помню! Забыл!
Ну, что ты тут будешь делать?
Да простит меня Чуба, да простят меня слушатели конкурса, набившиеся в тот вечер на танцплощадку, но я сделал шаг вперёд и заорал в микрофон, что:
Над степью широкой, ворон пусть не кружит
мы ведь целую вечность собираемся жить…
К следующему куплету Владя пришёл в себя и мы добили эту песню вдвоём – дуэтом, как и обещали.
На Сейм мы с Натали́ больше не ездили. Между нами случилась размолвка; я так толком и не понял из-за чего.
Вобщем, она мне сказала больше не приходить.
Конечно, я страдал, и я, конечно, ещё как обрадовался, когда через полмесяца моя сестра, она же «рыжая», сказала:
– Сегодня видела Григоренчиху, так она спрашивает: «Огольцов куда-то уехал, что ли?». Я говорю: «Нет». Она говорит: «Так чего ж он не приходит?» Вы что поссорились, что ли?
– Ничего мы не ссорились. Малá! Ты – солнце!!
Купальный сезон уже был позади и мы стали гулять в парке КПВРЗ.
Она привела меня туда и показала укромную скамейку позади нестриженых кустов вдоль аллеи.
Я не раз проходил той аллеей, но не догадывался, что за кустами есть скамейка.
Она стояла как бы в гроте из листвы.
Мы приходили туда с началом сумерек.
В аллеях зажигались редкие жёлтые фонари на столбах, а у кассы летнего кинотеатра вспыхивала яркая лампочка. Киномеханик Гриша Зайченко, напарник Константина Борисовича, запускал магнитофон с одними и теми же песнями:
«…словно сумерки наплыла тень,
то ли ночь, то ли день…»
Потом лампочка кассы гасла и начинался сеанс.
Скамейка погружалась в темноту в своей пещере из листьев.
К этой минуте наш разговор иссякал.
Она откидывала голову на мою руку вытянутую по верхнему брусу скамеечной спинки и – мир переставал существовать.
Особенно если она приходила без лифчика и в платье с длинной молнией замка спереди.
Но у всего есть свои пределы и когда, погружаясь в иное измерение, моя ладонь скользила ниже впадинки её пупка и пальцы касались резинки трусиков, её голова на моём плече недовольно двигалась и она издавала звук словно собирается пробудиться.
Я беспрекословно передвигался к сокровищам повыше.
Потом сеанс кончался.
Снова вспыхивала лампа над кассой кинотеатра.
Мы пережидали пока по аллее пройдут малочисленные киноманы и подымались со скамьи. Опустошённо охмелённые.
Ей пора домой. Папа говорил. Не позже.
Мир погряз в глубочайшей осени. Холодно, голо, сыро.
Листья опали, а мокрые чёрные ветки кустов уже не прятали скамейку. Да и кто сядет на мокрую?
Мы, по инерции, ещё приходили в парк, но и он стал враждебным.
Однажды, среди бела дня на меня начал наезжать мужик лет под тридцать.
Против него у меня не было шансов. Хорошо, что знакомые ребята из нашей школы позвали его выпить за танцплощадкой, а мы тем временем ушли.
Потом выпал первый снег. Растаял. Слякоть комкасто замёрзла, на неё снова выпал снег и началась зима.
В один из прогулочных вечеров, когда я расстегнул её пальто, чтобы пробраться к любимым грудям, она, отстранившись, сказала, что не может позволять всё человеку, который ей, фактически, никто.
Это я-то никто? После всего, что между нами было?!
Выяснение отношений – это просто пальба из кормовых орудий вслед паруснику, что удаляется своим курсом.
Мы расстались.
Прощай, сладчайшая Натали́.
Ах, кабы на цветы, да не морозы…
В конце февраля, год спустя после того, как я сказал маме, что согласен на операцию, мне пришлось лечь под нож.
Давши слово – держись.
С вечера и всё ночь у меня резко болел живот, а вызванная утром «скорая» определила у меня аппендикс, который нужно удалить пока не поздно.
До машины я дошёл сам, но там пришлось лечь в низкие брезентовые носилки, что стояли на полу.
Мама тоже хотела поехать, но по Нежинской шла её знакомая, которая опаздывала на работу и мама уступила ей своё место в тесной «скорой».
Она всегда говорила, что Юлия Семёновна очень хороший юридический консультант.
В городской больнице меня тоже поленились выносить носилками, пришлось подыматься на второй этаж самому и, переодевшись в больничный халат, самому же идти в операционную.
Там мне помогли лечь на стол и широкими ремнями привязали к нему мои руки и ноги.
На высокую рамку поверх лица набросили белую простынь, чтоб я не видел, что они там вытворяют.
Позади моей головы стояла санитарка, которую я тоже не мог видеть и задавала всякие отвлекающие вопросы. Они служили вместо наркоза, потому что мне сделали только местную анестезию шприцем в живот.
Обезболивание сработало. Я чувствовал и понимал, что это они там меня режут, но воспринималось всё это так, словно режут неснятые брюки.
Только под конец несколько раз было больно. Я даже застонал сквозь зубы, но санитарка над головой начала говорить какой я молодец, и что она ещё не видела таких терпеливых.
Пришлось заткнуться и дотерпливать молча.
Но до койки в длинном коридоре у меня всё-таки отвезли на каталке.
Через пару дней мне принесли записку от Влади.
Он писал, что его не пропускают, что наш класс придёт меня проведать, когда мне разрешат вставать и чтоб я поскорей выписывался, а то Чуба оборзел и прыгает на него как мазандаранский тигр.
Мне тогда ещё не позволяли напрягаться и рекомендовали сдерживать кашель, чтоб швы не разошлись. Но разве тут удержишься?