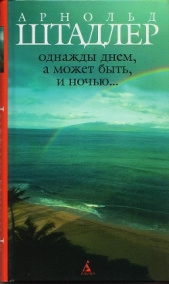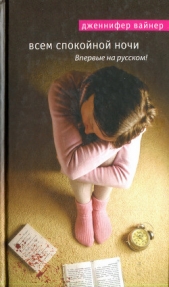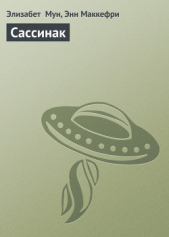Лондонские поля

Лондонские поля читать книгу онлайн
Этот роман мог называться «Миллениум» или «Смерть любви», «Стрела времени" или «Ее предначертанье — быть убитой». Но называется он «Лондонские поля». Это роман-балет, главные партии в котором исполняют роковая женщина и двое ее потенциальных убийц — мелкий мошенник, фанатично стремящийся стать чемпионом по игре в дартс, и безвольный аристократ, крошка-сын которого сравним по разрушительному потенциалу с оружием массового поражения. За их трагикомическими эскападами наблюдает писатель-неудачник, собирающий материал для нового романа…
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Небо говорит мне, что теперь я мог бы попросту выпутаться из всего этого. Ох-хей, тра-ля-ля, или как там поется? Потерпев неудачу в искусстве и любви, потерпев сокрушительное поражение, я могу в обеих этих областях одержать победу — даже и сейчас, под конец этого проклятого Богом дня. Дела мои в полном порядке. Все актеры наготове. Вот только где же это такси?
Я позвонил Гаю и сказал ему, чтобы он не предпринимал никаких опрометчивых действий, пока я буду в отъезде. Не хочу, чтобы он совершил что-нибудь опрометчивое, прежде чем я вернусь. Если повезет, у него будет несколько спокойных дней. Или — беспокойных дней. Я предвижу возобновление у Мармадюка бронхиальных проблем. Пробыв наедине с ребенком более часа, Кит Талант, как мне случилось узнать, более чем перевыполнил свою обычную квоту, составлявшую одну сигарету каждые семь минут. Помимо того, что он научил Мармадюка боксировать, ругаться и булькать горлом над красотками, распластанными на страницах бульварной газетенки, Кит преподал ему и искусство курения.
С самим Китом я, конечно же, ничего не смогу поделать. На протяжении всей его жизни люди пытались его урезонить, но ни у кого ничего не получалось. Его пробовали сажать за решетку. Я бы сам, будь моя воля, продержал его пару недель под замком. Подобно мне, подобно Клайву, подобно планете, долг Кита становится все старше; и Кит сделает все, что только ему понадобится… Так или иначе, я к нему заходил. Тяжко взошел наверх по бетонной лестнице, пробираясь сквозь непрерывный гул непристойностей. Боже мой, даже десять лет назад в Лондоне было большим достижением миновать пару мужчин, разговаривающих на улице, и не услышать при этом какой-нибудь матерщины; теперь же она у всех на языке — и у мальчуганов, и у викариев, и у старушек. Дверь я открыл сам — несколько дней назад Кэт безмолвно вручила мне одинокий изогнутый ключ. Мать и дитя были дома; собаки не было, не было и кидалы. Ким обрадовалась, увидев меня, — так сильно обрадовалась, что если бы я не был так ослеплен и заморочен этой своей любовной миссией, то, возможно, признал бы, что в чертовом этом Виндзорском доме всерьез испортилось что-то очень серьезное. Одного часа под Китовым присмотром достаточно для того, чтобы Мармадюка положили в больницу; и то же самое относится к Ким Талант, то же самое — к Ким Талант… В короткометражке о живой природе взрослый крокодил тянет свою пасть к малышу. Вы опасаетесь худшего, но бритвенно-острые челюсти этого зверя оказываются достаточно нежны, чтобы обращаться с новорожденной плотью в стиле кошка-и-котенок. С другой стороны, рептилии обычно не ухаживают за своими младенцами. А когда папочка сходит с ума, его огромные челюсти выпячиваются ради иных целей, иной жажды… Ким расплакалась, когда я попрощался. Она плакала, когда я выходил из комнаты. Думаю, она меня очень любит.
Меня любили и прежде, но никто никогда не плакал, когда я выходил из комнаты. Трудно поверить, чтобы Мисси случалось плакать, когда я покидал квартиру. Да и мне тоже. Перед уходом я написал Киту записку (к которой присовокупил пятьдесят фунтов за пропущенные уроки метания), оставив ее на кухонном столе, рядом с октябрьским номером «Дартс мансли»: уж здесь-то он никак не упустит ее из виду.
Господи, да я сам мог бы поехать в аэропорт. Куда больший вопрос: смогу ли я приехать обратно? К тому же Марку Эспри может потребоваться его машина.
— Могу ли я просить вас, Николь, — сказал я по телефону, — быть осмотрительной и свернуть всю свою деятельность до минимума, пока я буду в отъезде?
Что-то жуя, она спросила:
— Что заставляет вас туда ехать?
— Любовь.
— О! Какая досада. А я как раз собиралась сделать несколько крутых ходов. Вы рискуете пропустить все эротические кадры.
— Не делайте этого, Николь.
Она сглотнула. Явственно слышалось ее дыхание. Потом проговорила:
— Ладно, вам повезло. На самом деле я только что сказала Гаю, что на несколько дней уезжаю. В свое убежище.
— В ваше что?
— Вы что, не в восторге? В одно местечко, где имеется парочка монахинь и монахов. Где я смогу все как следует обдумать на лоне природы, среди лесов.
— Это замечательно. И я вам благодарен. Почему вы решили остановиться?
— Нет выбора. Так что не беспокойтесь. Вы получаете отсрочку на несколько дней.
— А в чем дело?
— Угадайте… Ну, давайте же. Нечто, над чем я не властна.
— Я сдаюсь.
— Это долбаная женская напасть, — сказала она со вздохом.
Высокомерный индиец только что промямлил мне нечто такое, что я едва не отчаялся дождаться появления такси когда-либо в обозримом будущем. Он, казалось, почувствовал, что я живу в прошлом. Теперь, сказал он мне, все не так, как было раньше. Но он постарается что-нибудь сделать. Я, конечно, возьму с собою тетрадь. И оставлю роман. Увесистую кипу страниц, аккуратно выровненную. Хочу ли я, чтобы это прочел Марк Эспри? Полагаю, что хочу. Я возьму с собою тетрадь: со всем этим ожиданием и прочим; я ведь ясно осознаю, что мне нужно будет сказать очень многое. Изменилась ли Америка? Нет. Америка не озаботится никакими новыми идеями, никакими новыми сомнениями о себе самой. Только не она. Но, может быть, мне окажется по силам некое новое прочтение: допустим, опираясь на впечатления от поездки, напишу нечто для сведения, основательное такое (и пригодное для публикации?) размышление, развернутое до восьми, а то и десяти тысяч слов, о том, как Америка начинает выполнять…
Да, это забавно. К подъезду — вот дела — только что подкатил Кит в темно-синем своем «кавалере». Я встал. И тут же сел снова: снова жесточайшая неохота охватила мне бедра, сковала чресла, где следовало бы ключом бить любви… Ладно, какие действия предписывает здесь этикет? Он вылез из машины и осторожно оглядел улицу. Я ему помахал. Он поднял большой палец, так похожий на стрелковый лук, — свой загнутый, полукруглый большой палец. На Ките сетчатая рубашка и светлые брюки в обтяжку, но шоферская его шапочка зловеще покоится на капоте. Он полирует хром бумазейной салфеткой. Если он откроет заднюю дверцу первой, то я выложу еще пятьдесят фунтов.
Ну ладно, хватит. Я готов. Поехали в Америку.
Вот я и вернулся.
Я вернулся.
Шесть дней я был в отъезде. Не написал ни единого слова. Чувствую себя так, что и впредь мог бы не написать ни единого. Но вот оно, еще одно слово. А вот — еще.
Я проиграл. Я побежден. Я потерял все.
Несчастливое число тринадцать.
Господи, если бы только я мог улечься в постель и закрыть глаза, не видя никаких зеркал.
Пожалуйста, никто на меня не смотрите. Я и впрямь расшибся — споткнулся там и расшибся в кровь. Ох… да, я разлетелся вдребезги.
Если не считать того, что в силу международного положения и сами они, и их возлюбленные могут в любое мгновение исчезнуть (это предложение надо бы переделать, но теперь уже слишком поздно), мои протагонисты пребывают в добром здравии и не теряют присутствия духа. Они по-прежнему образуют свой черный крест.
Они выглядят несколько изменившимися. Но не настолько изменившимися, как я, катапультированный обратно в семидесятые и все еще не оправившийся после этого падения.
Я прихожу в «Черный Крест», и никто меня не узнает. Я незнакомец. Придется все начинать сначала.
Быть может, из-за своей приверженности к форме писатели всегда отстают от современной бесформенности. Они пишут о старой реальности, причем языком, еще более устаревшим. Дело не в словах — дело в ритме мысли. В этом отношении все романы являются романами историческими. Я, не будучи на самом деле писателем, возможно, вижу это отчетливее. Однако и я грешу тем же самым. Пример: я все еще продолжаю писать так, как будто люди чувствуют себя хорошо.
Посмотрел на детей, которые тоже меняются очень быстро. Мармадюк, насколько я могу судить, остался в точности таким же, за исключением одной только частности. Он больше не требует «молок». Теперь он требует — причем часто и громко — «мьюка», «моука», «мулека» или попросту «млка».