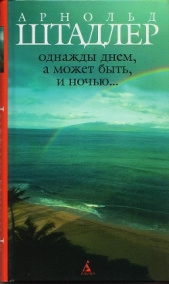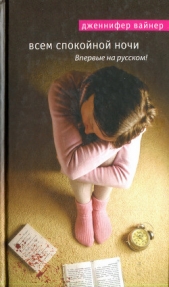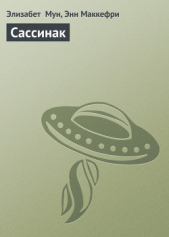Лондонские поля

Лондонские поля читать книгу онлайн
Этот роман мог называться «Миллениум» или «Смерть любви», «Стрела времени" или «Ее предначертанье — быть убитой». Но называется он «Лондонские поля». Это роман-балет, главные партии в котором исполняют роковая женщина и двое ее потенциальных убийц — мелкий мошенник, фанатично стремящийся стать чемпионом по игре в дартс, и безвольный аристократ, крошка-сын которого сравним по разрушительному потенциалу с оружием массового поражения. За их трагикомическими эскападами наблюдает писатель-неудачник, собирающий материал для нового романа…
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ладно, если мы собираемся все это продолжать, придется внести сюда кое-какие изменения. Помимо всего прочего, я, по-моему, еще и слепну — так и пусть вылиняют все краски. По правде говоря, Николь уже навязала мне это своими последними выходками. Кто сказал, что этим людям требуется так уж много воздуха и пространства? Теперь все мы в одной лодке.
Ким перестала говорить «Эньла»! Она теперь причитает и плачет вполне обычно, по-человечески, запутанно и невразумительно. Не почитает она больше эту непредсказуемую, эту дикую богиню младенцев, что зовется Эньла!
Теперь мы все в одной лодке. Как и в случае с международным положением, чем-то придется пожертвовать, и пожертвовать скоро. Все станет намного грубее, грязнее. У всего кончается завод — у меня, у пятого и десятого, у земли-матери. Более того: сама вселенная, хотя и кажется достаточно просторной, устремляется к тепловой смерти. Надеюсь, что параллельные вселенные существуют. Надеюсь, что существуют альтернативы. Кто приторочил нас к этим изъянам конструкции? Энтропия, стрела времени — хищный хаос. Вселенная сконструирована с таким умыслом, чтобы она все время выходила из строя, как какая-нибудь штуковина, побывавшая в «Доброй Починке». Так что вселенная эта, быть может, не что иное, как подделка, суррогат, дешевка, подсунутая нам Кидалой.
Думаю, что вполне смогу прожить без «молок». Но «Эньла»? Мне уже этого недостает. И я никогда не услышу этого снова. Никто не услышит, не из ее уст. Как это звучало? Насколько хорошо я это помню? Куда это делось? О боже, нет! Этот ад времени… Понятия не имел, что все обретенное на этом пути тоже теряется. Время обирает тебя обеими руками. Все попросту исчезает в нем.
Кит пребывает под впечатлением, будто прошел через суровую проверку характера и вернулся с развевающимися знаменами. Вот он стоит, держа левую руку у себя под носом, а куртуазный палец правой — на уступе между древком и стволом дротика, задрав кверху мизинец… вот она, Китова цельность! Да и Гай, если вдуматься, в полном порядке. Гай-фантом: глупец-голубок, контрастный фон. Я ходил навестить его в больнице. Лежит он там в белой ночной рубахе, с бледной улыбкой. Он и впрямь заставил нас поволноваться. Но оба они на плаву, оба движутся в должном направлении.
Мне кое-чего не хватает, мне не хватает того, что имеет отношение к правде, и дело оборачивается так, что я нахожусь в очень удобном месте, чтобы учинить кражу со взломом — кражу правды, я имею в виду, — потому что это повествование правдиво.
Форма сама по себе является моим врагом. Все эти проклятые небылицы. В итоге сочинительства (правильно так именуемого) люди становятся последовательными и разумными — а они не таковы. Все мы знаем, что они не таковы. Все мы знаем об этом из личного опыта. По себе знаем.
Люди? Люди — это хаотичные сущности, обитающие каждый в своей пещере. Каждый из них посвящает целые часы любовным невзгодам, повторному проигрыванию пережитого ранее и мысленным экспериментам. К общему костру они выносят обычную долю самих себя, предназначенную для показа, и слушают свою собственную безмолвную трескотню о том, как они себя чувствуют, да о том, как много они потеряли. Мы знаем по себе.
Помогает смерть. Смерть позволяет нам кое-что сделать. Потому что смотреть в противоположном направлении — это работа на полную ставку.
Высококультурная записка от Марка Эспри, — такая же гладкая, так же хорошо поданная, как и ее автор, — которую он оставил в кабинете, прислонив к моей тщательно выровненной рукописи:
Дорогой мой Сэм,
Недостает двух вещиц. (Уж не завел ли ты дурных знакомств?) Не думаю, чтобы ты, будучи безупречно воздержанным от курения человеком, ими пользовался или хотя бы обратил на них внимание, — но что до меня, то с утренним кофе я обожаю выкурить основательную порцию крепкого турецкого табака и не в меньшей степени наслаждаюсь на исходе дня, ощущая меж губ грубую твердость огромной гаванской сигары. Пункт 1: ониксовая зажигалка. Пункт 2: пепельница из позолоченной бронзы.
Всегда твой, М. Э.
Ни единого упоминания (кроме разве что в этих скобках?) о моем романе, который, я уверен, он просматривал — хотя страницы, это правда, не сдвинуты ни в малейшей степени.
Гадаю, не встречался ли М. Э., пока жил здесь, с той, кому суждено быть убитой; не спал ли он с нею во время своего здесь пребывания. Сейчас это, кажется, ничего для меня не значит. Хотя погоди-ка: чувствую, как что-то опять собирается вокруг меня. Честолюбие, одержимость. Лучше бы одержимость. Ничто другое не в состоянии вытащить меня из постели. Вокруг все полки в кабинете забиты дрянцом, вышедшим из-под пера Эспри. Именно что писаниной…
Я нуждаюсь в основательнейшем обновлении информации, в подробнейшем разборе полетов, а она потрясающе мила и терпелива со мною. Вот что несомненно: мне будет ее не хватать.
У погоды новая манера — или, лучше сказать, новый угол зрения. Я не имею в виду мертвые облака. Она, по-видимому, останется такой же очень долгое время. Уж во всяком случае, немалое. Ничего хорошего в этом нет. Это попросту сделает все еще хуже. Нет в этом и ничего умного. Погоде и впрямь не стоило бы так поступать.
Он нахмурился. Она рассмеялась. Он смягчился. Она надулась. Он ухмыльнулся. Она вздрогнула. Да полноте: мы не делаем этого. Разве что когда притворяемся.
Одни лишь младенцы хмурятся и вздрагивают. Прочие из нас только изображают это своими фальшивыми физиономиями.
Он ухмыльнулся. Нет, не было этого. Если какой-нибудь парень в наши дни действительно ухмыльнется тебе в лицо, то лучше бы оттяпать ему голову, прежде чем он оттяпает твою. Скоро и чихать, и зевать будут в основном для вида. И даже корчиться в судорогах.
Она рассмеялась. Да нет же, нет. Смеемся мы примерно дважды в год. Большинство из нас потеряли свой смех и вынуждены теперь обходиться имитацией.
Он улыбнулся.
Не вполне правда.
Обо всем этом не стоит думать, не стоит говорить, не стоит писать. Обо всем этом не стоит писать.
Глава 13. Им было невдомек
Очертаниями своими похожее на горбатого и кривобокого ската, старое, замызганное нефтью, полупрозрачное, волочащее за собой распушенный шлейф коричневатого пара, мертвое облако вывалилось из дымки и, выказывая все признаки натужных усилий, проложило себе дорогу к темному амфитеатру запада. Гай Клинч проследил за ним взглядом. Теперь он опустил глаза. Облака всегда казались ему как бы квинтэссенцией всего того, на что можно надеяться от нашей планеты; они трогали его больше живописи, больше самых волнующих морей. Так что когда он видел мертвые облака, то это тоже оказывало на него сильнейшее воздействие (которое стало еще сильнее с тех пор, как он сделался отцом). Мертвые облака заставляют ненавидеть отцов. Мертвые облака делают любовь тяжкой. Но они же заставляют стремиться к ней, к любви, нуждаться в ней. Они делают так, что мы не можем без нее обойтись.
Вот как обстояли дела с Гаем. Или — вот как они в нем раскачивались и колыхались. В ночь Раненой Птицы — поцелуя, когда его губы напряглись, чтобы то ли коснуться губ Николь Сикс, то ли уклониться от них, — Гай вскоре после десяти отправился в больницу.
Сам он чувствовал себя превосходно. Если бы кто-нибудь спросил его, как он себя чувствует, он сказал бы, что «чувствует себя превосходно». Если не считать зуда в левом глазу, боли в горле, мягкого мононуклеоза и кратковременных колик (все это вполне укладывалось в просторные и всегда готовые к расширению рамки прекрасного самочувствия), а также более или менее постоянных болей в нижней части спины, связанных с его высоким ростом, да еще бесчисленных домыслов обо всем остальном, что держалось про запас и таило в себе смертельную угрозу, Гай чувствовал себя превосходно. С другой стороны, приступ астмы у Мармадюка (который нежданно разразился этим вечером) был, по всем признакам, крайне серьезным. Явившийся врач с восхищением пронаблюдал издали за отчаянными вздутиями Мармадюкова живота. Не то чтобы он не мог втянуть в себя воздух — он не мог его вытолкнуть обратно. Последовало множество телефонных звонков — они, словно лучи прожекторов, ощупывали все закоулки и щели системы здравоохранения. Ну и конечно же, у Гая и Хоуп тоже была некая система. Если наилучшее лечение обеспечивалось в частной клинике, то с ребенком туда отправлялась Хоуп; если же нет, то Гай. Такое распределение ролей, говорила Хоуп, вполне отвечало его убеждениям сторонника равноправия, его интересу к «жизни», как она, со всем должным презрением, это именовала. Во всяком случае, около одиннадцати Гай уложил в портфель пижаму и зубную щетку, вскоре после чего уселся в автомобиль, дал задний ход и выбрался на улицу.