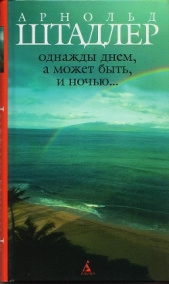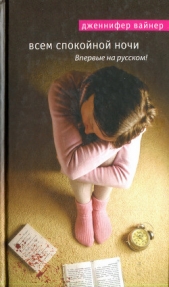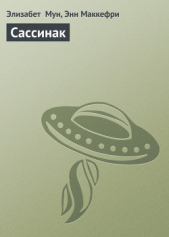Лондонские поля

Лондонские поля читать книгу онлайн
Этот роман мог называться «Миллениум» или «Смерть любви», «Стрела времени" или «Ее предначертанье — быть убитой». Но называется он «Лондонские поля». Это роман-балет, главные партии в котором исполняют роковая женщина и двое ее потенциальных убийц — мелкий мошенник, фанатично стремящийся стать чемпионом по игре в дартс, и безвольный аристократ, крошка-сын которого сравним по разрушительному потенциалу с оружием массового поражения. За их трагикомическими эскападами наблюдает писатель-неудачник, собирающий материал для нового романа…
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это крест, который нам суждено нести, — сказала она невнятно.
Гай, изогнув пульсирующую шею, поцеловал ее в полуоткрытые, полупроснувшиеся губы, от которых пахло жаром и сновидениями. Он бдительно лежал с нею рядом, и надеясь, и не надеясь. О, эта легкая рассветная горячка, когда тело по-детски утомлено и расслаблено, наполнено странными звонами, покалываниями и наклонностями; такое случалось во время совместных бессонных ночей после летних балов и, гораздо раньше, на исходе ночей, заполненных отважными и стойкими занятиями. Является ли «Троил и Крессида» антикомедией? Изложите этапы формирования Особых Отношений [59]… Гая, по правде сказать, одолевала сейчас едва ли не гротескная эрекция — кожа натянулась там туго, как на барабане. Его вспомогательное сердце, которое отказывалось стать невостребованным или не принимаемым всерьез. Просто прижаться поплотнее к простыне, и, возможно, очень легко будет…
— Я этим займусь, — пробормотала Хоуп, выскальзывая из постели со спокойной животной покорностью, — ибо отчаянные вопли Мармадюка достигли такой громкости и тембра, при которых не в состоянии спать никакая мать. Было утро. Наступил другой день.
Он повернулся на спину. Перед его мысленным взором вертелась эта игрушка, которую он подарил Николь, — округлая, голубая, похожая на миниатюру викторианской эпохи. Символ настоящей планеты, он и сам был настоящей вещью. Тремя жестокими ударами с ней, вне сомнения, можно было бы покончить. Но все соображения — включая брезгливость, еще одну разновидность amour propre [60], и мысль о том, какую грязь все это оставит, — сочетались, как обычно, чтобы удержать его руку.
Вряд ли кто захочет играть с этим подобным образом.
Двумя днями позже Гай сделал нечто вполне обыденное. А затем произошло нечто странное.
Он помог слепому перейти через улицу. А затем произошло нечто странное.
На Райфл-лейн у «зебры» пешеходного перехода стоял слепой — совершенно древний старик. Стройный, стремительный, размашисто шагающий Гай замедлил ход, когда его увидел. Это, возможно, не было заурядным зрелищем, более не было. Теперь на улицах не так уж часто можно увидеть слепых. Не так уж часто — глубоких старцев. Они сидят по домам. Они не выходят наружу, больше не выходят. В этом году — нет.
Высокий, тощий старик стоял со свойственной слепцам прямотой, слегка откинувшись назад, меж тем как полноправные властители мостовых и тротуаров крест-накрест сновали мимо. Некоторая неуверенность его позы позволяла предположить, что стоял он там довольно долго, хотя и не выказывал какого-либо страдания. В сущности, он даже улыбался. Гай шагнул вперед и тронул старика за плечо. «Не возьмете ли меня за руку, сэр?» — сказал он. «Вот так, вот так», — повторял он, ведя его за собою и побуждая то ускорить, то замедлить шаг. На противоположном тротуаре Гай предложил слепому сопроводить его и дальше — домой, куда угодно. Незрячие глаза в изумлении уставились в сторону его голоса. Гай пожал плечами: окажи в наши дни простейшую любезность, и все глядят на тебя так, словно ты свихнулся. А затем изумление стало взаимным, ибо слепец, постукивая своей тросточкой, добрался до ближайшей стены, уронил голову и применил свои глаза для того дела, с которым они все еще хорошо справлялись. Слезы потекли из них с достаточной легкостью.
Гай снова приблизился к слепому, испытывая смущение и что-то вроде паники.
— Оставьте его, — сказал один из наблюдавших эту сцену.
— Да оставь ты его в покое, мать-перемать, — посоветовал другой.
Гай под непрекращающимся дождем побрел восвояси. Несколькими часами позже, когда он был уже дома и его смятенность и сердцебиение начали успокаиваться, ему вспомнилось нечто, о чем он где-то читал… о путешественнике и голодающем племени. Как, бишь, там было? Антрополог в пробковом шлеме вновь посетил племя, которое превозносил когда-то за царившее в нем добросердечие. Но на сей раз племя голодало; вся еда, какая там только имелась, доставалась сильным; и сильные смеялись над слабыми, над хрупкими, увядающими слабыми; и слабые тоже смеялись. Слабые тоже смеялись, разделяя буйную веселость, занявшую место всех прочих, исчезнувших чувств. Как-то раз одна старуха ковыляла по краю обрыва. Кто-то из сильных, проходивший мимо, — этакий знаток яств, кичливый чемпион по жратве — любезно столкнул ее с края, лягнув под зад. И вот, когда она лежала там и смеялась, путешественник поспешно бросился к ней, чтобы как-то утешить. Но утешение оказалось для нее невыносимым. Пара ласковых прикосновений, мягкие слова, рука помощи — вот что заставило женщину разразиться слезами. Действительность казалась вполне приемлемой — по сути, полной веселья, — пока не довелось снова почувствовать, каково это, когда люди добры. Тогда действительность стала нестерпимой. Потому-то и расплакалась старуха. Потому-то и расплакался слепой. Они могли мириться с жизнью, покуда никто вокруг не был добр.
Гай же был добр, точнее, он был добр в тот день. Все у него было чудесно. Открытка от Николь покоилась в его кармане. Набор доспехов — отважные слова. В другой раз он, возможно, просто прошел бы мимо. Любовь слепа; но благодаря ей замечаешь слепого, мешкающего на краю мостовой; она заставляет отыскать его в толпе глазами любви.
— Милый, слышишь? Иди ко мне на ручки.
— …Ходи.
— Давай-давай. И почитай книжку. Иди к папе на ручки. Вот молодечик.
— Сучки.
— Ручки. Очень хорошо! Молодец. Смотри. Еда. Ты любишь еду. Что вот это?
— Стервы.
— Стервы?.. Консервы. Кон-сер-вы. Очень хорошо. А это что?
— Лицо.
— Яйцо, правильно. Яйцо. А это что?.. А что вот это?.. Вот, теперь мы в саду. Что это? Что это, милый?
— Сетка.
— Ветка. Молодечик. В-в-ветка. А вот цветок. Скажи: «цветок»… Это вот лепестки. А вот эта штучка внизу называется…
— Гибель.
— Стебель. С-с-стебель. Очень хорошо. Превосходно. А как вот это называется? Где раньше было дерево. Как у нас в саду. Где потом его срубили…
— Убили.
— Мармадюк, да ты гений! Это — пень. Это что?.. Дерево. А это что?.. Травка. Не делай так, милый. Ой! Стой, посмотри! Зверюшки. Зверюшки. Это кто?
— Отца.
— Да, овца. Умница. А это?
— Зев.
— Лев. Л-л-лев. Л-л-лев. А здесь вот что за закрученная штучка, такая липкая?
— Улика.
— Улитка. Превосходно! Ага. А вот твой любимый зверек. Самый-самый из них лучший. Нет, дорогой, подожди. Эй! А вот и еще. Ты таких любишь. Что это? Это что?
— …Тушка!
— Да! А что она делает? Что она делает, чего ни одна другая зверюшка не может? Что она делает?
— …Бух!
— Мо-ло-дец! Знаешь, ты ведь иной раз можешь быть просто-таки замечательным детенышем.
Когда Гай наклонялся вперед, чтобы прощально поцеловать в затылок становившегося все более непоседливым ребенка, Мармадюк весьма удачно провел обратный удар головой. Скорее всего, это вышло случайно — по крайней мере, отчасти, — хотя Мармадюк много смеялся, показывая на Гая пальцем. В любом случае сочетание двух движений привело к довольно ощутимому удару. Каждый, кому доводилось натыкаться на фонарный столб или сталкиваться с другим пешеходом, знает, что пять километров в час — достаточно опасная скорость для человека; что уж там говорить о трехстах тысячах километров в секунду. Все еще сомневаясь, что кровь остановилась, он сплевывал и сплевывал в бумажную салфетку, когда, пятнадцатью минутами позже, раздался стук в дверь и она отворилась.
— Привет, Дорис, — сказал Гай.
— Привет, Гай, — сказала Дорис.
Гай слегка поморщился от такой фамильярности — точнее, не он сам, а один из его генов. Дорис, нанятая недавно блондинка лет тридцати-сорока, отличалась дородностью, а также тем, что ее плохо слушались ноги. Из-за мятежного их настроя она успела уже настрадаться на лестнице у Клинчей.