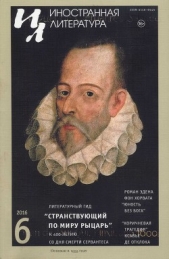Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он направился к выходу. Осанка у него была прямая и гордая. Я поспешно оделся. Эта первая утренняя трапеза не особенно отличалась от повседневных; только напитков на сей раз было два: рядом с кофейником стоял горшочек, наполненный жидким шоколадом с ароматом ванили. Чтобы оправдать наличие этого сладкого напитка, был подан нарезанный ломтями шафранно-желтый лимонный кекс, который здесь на острове называют гляйхшвер. Мы старались растянуть трапезу, но почти не разговаривали. Тем не менее одно странное высказывание Аякса я не могу не упомянуть: «Лоб у тебя белый, а вот мысли — цветные; не забывай об этом».
Он дополнил это высказывание — или попытался сделать более «сподручным», — приплетя к нему, равнодушным голосом, такую фразу: «Внутренние ландшафты людей не сильно отличаются один от другого; к этой натуре в большинстве случаев только применяют репрессивные меры, вспахивая ее. Воспитание занимается обработкой таких полей, засеивая их разными добродетелями».
Развивать свою мысль дальше он не стал. Я тоже не помог ему высказаться откровеннее. Меня в тот момент вообще не интересовало скрытое значение его странных фраз. Он же решил, что теперь для него самое время вернуться на кухню.
Я остался один. Мое предложение — помочь — он отверг. Я, мол, должен поддерживать в печках огонь… Выполняя это поручение, я зашел и в его комнату. В моей памяти она все еще была комнатой Тутайна; но в действительности, как я увидел, там многое изменилось. Предметы мебели поменяли места. Тот угол, где прежде на большом низком столе громоздились — или были разбросаны по всей поверхности — принадлежности Тутайна для письма, живописи и рисования, превратился в зеркальный кабинет {192}. В чулане Аякс нашел большое, покрытое амальгамой стекло, заключенное в старинную раму, которое — я уже не помню, каким образом, — досталось нам с Тутайном от вдовы Гёсты. Теперь оно стоит на цоколе из фанеры, задрапированном куском ткани. Под прямым углом к нему, очень низко, на восточной стене, висит зеркало меньших размеров — которое когда-то было прикреплено к стене выше и служило для нужд Тутайна. Между обоими отполированными зеркальными стеклами помещен маленький столик, который буквально наводнен всякими пиалами, коробочками и флаконами, напоминая запас одеколонов и средств для укладки волос, выставленных на обозрение каким-нибудь процветающим парикмахером. Однако больше всего меня удивило положение кровати. Она теперь отодвинута от стены и стоит, как святилище, на большом ковре посреди комнаты {193}. — Я сразу заметил эту перемену. Тутайн ведь умер возле стены. — И еще новый запах наполнял теперь помещение. Испарения Аякса уже пропитали собой все предметы, пометив их мельчайшими частичками его материальности. Легкое, едва уловимое парфюмерное облачко вытеснило последние остатки запаха кожаной конской сбруи, преобладавшего некогда поблизости от Тутайна. Однако аромат горящих березовых поленьев сделал этот новый воздух приятным для меня. О, этот запах пылающих березовых дров, уже несколько десятилетий присутствующий в зимних комнатах, где мне доводилось жить! Именно с помощью кусков березовой коры Кристи когда-то разжигал огонь в печи! А таинственные знаки на светлой, цвета сливок, коре послужили одним из поводов, чтобы я стал композитором. (Путь моей памяти долог.) И разве не тот же был запах, когда мы уложили на полу, возле печки, полумертвого Эгиля? Разве не сопровождал этот запах смерть Тутайна? Разве не он сгустился в горячий пар в тот вечер, когда Тутайн, еще живой, в первый раз рисовал меня — прежде раздев и уложив на диван? Разве не полнился тем же запахом дом пастора — как непостижимым потоком благополучия? — Путь моей памяти долог. Теперь это новое стало новым звеном цепи. В будущем благовонные клубы дыма от горящей печи всегда будут смешиваться в моем сознании с тончайшими сладковатыми облачками распыленного одеколона. И я уже не смогу отделить от них смутный привкус раскаяния. Память о золотых сосках. Ужасное ощущение неопределенности. Мучительное томление по греху, который я не совершил, но который мог бы пойти мне на пользу.
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Не поможет, даже если я вскочу, будто решившись на что-то. Я по натуре человек робкий…
Сегодня утром я не работал. Хотя никто мне не запрещал этого; я сам это себе запретил. Я был полон ожидания, но не проявлял нетерпения. Время от времени выглядывал в окно. Рабочие из-за дождя приостановили свою деятельность; во всяком случае, грохота взрывов я не слышал. Промелькнул час, вслед за ним — второй. (Я уже вторично загрузил дрова в печки, сходил по коридору на конюшню к Илок; все это время я слышал легкие шорохи в кухне.) Наконец Аякс вошел в комнату. Он принес вино и какую-то выпечку.
— Что это должно означать? — удивленно спросил я.
Он ответил не сразу. Сперва поставил передо мной вазочку с миндальными пирожными, повернул бутылку этикеткой ко мне, так что я смог прочитать знакомые слова: «Lacrimae Christi» {194}.
— Обычай подавать еще до полудня сладкое вино, конечно, устарел, — пояснил он, — но ведь ты сам мне о нем рассказывал.
Действительно, я недавно поделился с ним одним детским воспоминанием. — В доме моих родителей иногда случались утренние приемы. Приходили желающие поздравить или просто воскресные гости, какой-нибудь дальний родственник с женой и детьми, болтающими по-иностранному, потому что они только что вернулись из-за границы; Фрица, молодого забойщика скота, тоже так угощали, когда он приехал из Небеля с траурным венком для скончавшегося сапожника Бонина. — Навестить роженицу не приходили: я был единственным ребенком; о выкидышах или мертворожденных детях мне ничего не известно. — Поводы к визитам казались мне столь же непонятными, как обычаи, связанные с чуждой мифологией. В то время не моя воля определяла превращение обычного утра в священный час приема гостей — а какая-то поистине незримая сила, сокровенный закон, повергавший меня в изумление, — и ритуал, который в таких случаях развертывался, всякий раз внушал мне благоговейный страх. — В тончайших бокалах подавали «Слезы Христовы». Гости рассаживались вокруг маленького столика (так это обычно бывало) и лакомились миндальными пирожными под названием львиные лапы, наполовину покрытыми шоколадом. Дамы присаживались к столу, не снимая шляп. Они непрерывно говорили какие-то слова, ничего не значащие. Перчатки они клали куда попало и после не могли вспомнить, где их оставили. По достижении определенного возраста мне уже разрешалось попробовать вина. Моя мама была доброй и не настаивала на дотошном соблюдении принципов. Я макал кусочек пирожного в вино, чтобы продлить удовольствие от странного жгуче-сладкого напитка. «Ты опьянеешь, — произносил мимолетно-улыбчивый голос. — Макать пирожное в вино — от этого голова пойдет кругом».
Так проходил этот праздник. Он повторялся часто, на протяжении многих лет. Мало-помалу он утрачивал в моих глазах религиозный смысл. На смену «Слезам Христовым» мог прийти красный портвейн, но это лишь означало, что при покупке родители предпочли вино из другого сорта винограда…
Внимательность Аякса чрезвычайно тронула меня. Я отхлебывал вино и возвращался долгим путем в свое детство. Но родительская гостиная, куда я в конце концов попал, казалась совершенно пустой. Люди, которые там собрались, не имели ни лиц, ни кистей рук. Облегавшие этих людей неотчетливые одежды были настолько непрочными, что избегали любого соприкосновения в пространстве. Я узнавал только шляпы (капоры и другие: большие, как тележные колеса, со страусовыми перьями), перчатки и рюмки {195}. Голоса оставались беззвучными: я воспринимал лишь слова, скорее написанные, чем произносимые вслух. Объективный вкус теперешнего вина не мог колдовским образом вернуть мне небесный напиток тех давно ушедших времен.