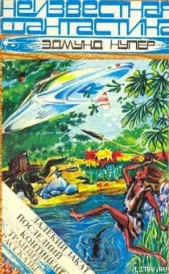Новый Мир ( № 5 2006)
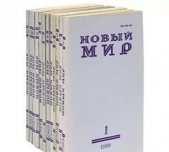
Новый Мир ( № 5 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нельзя не согласиться и с аргументами Степаняна, возражающего Г. С. Померанцу, который поставил знак равенства между Ставрогиным и Достоевским: “Порочный круг, в котором вращается мысль Ставрогина, — это круг мысли самого Достоевского”. Только, может быть, следовало автору воздержаться от чересчур темпераментного комментария: “Такого давно не приходилось читать”. Степанян — полемист горячий, иногда далеко увлекаемый эмоциями, не всегда сдерживающий свое “грешное перо”, как он один раз высказался, невольно впав в “гоголевский” тон Фомы Опискина. Любую критическую реплику в адрес Достоевского он воспринимает близко к сердцу, как личную обиду и, отвечая, переходит всякую меру. Рассерженный действительно рутинным обвинением Достоевского в том, что тот поддерживал войну как один из способов национального объединения, Степанян создает “фантастическую” страницу о Константинополе, полагая, что если бы тот в 70-е годы XIX столетия отошел к России, то не было бы не только геноцида армян, но и Первой мировой войны и вообще все не развивалось бы в мире так страшно и трагически. Это превосходит политические фантазии и пророчества Достоевского, обращенные в будущее, а не в прошлое. Многие пророчества Достоевского не сбылись или сбылись наоборот, что как будто очевидно. Степанян считает, что Достоевский был слишком примитивно истолкован и что они сбылись, пусть и в несколько неожиданном виде. И спасение Западу пришло с Востока, и “единение всех народных сил во имя победы произошло”… Что же касается революции, нередко уничижительно именуемой “большевистским переворотом”, то она, оказывается, была всего лишь “эпизодом извечного русского стремления к окончательному торжеству правды и справедливости, к таинственному царству Беловодья”. (Опония, переродившаяся в Архипелаг ГУЛАГ?)
Издержки любви автора к Достоевскому, положим, — но издержки немалые и вряд ли оправданные. Максимализм, рождающий непременно масштабные выводы (“Все, о чем писал Достоевский, применимо к нашему времени”); утешительные прогнозы, основанные на чудодейственных свойствах художественного слова (особенно русской классической литературы) и вере в то, что “спасется Россия, спасет и своих братьев и сестер вокруг”, — в таком исходе уже убеждены и какие-то “умные иностранцы”, называющие “Россию единственным еще живым местом на Земле” (где, интересно, Степанян обнаружил таких удивительных иностранцев, мне что-то совсем других мыслей попадались); наконец, рассуждения о деньгах, восходящие к финансовым теориям Достоевского, изложенным в январском выпуске “Дневника писателя” за 1881 год. Либерализм, позитивизм, социально-экономический “порядок вещей”, плюрализм, социальная справедливость и борьба — поднявшимся по метафизической вертикали все это предстает жалкой языческой суетой. Ведь “стоит только понять, что жизнь не кончается здесь, на земле, как все жалобы на несправедливость становятся бессмысленными”. Так ясно и так просто. Отсюда обида автора на С. Г. Бочарова, который, мягко полемизируя с суждениями “религиозных литературоведов” (в том числе со Степаняном и его “единомышленниками”), заметил, что в их работах порой литература “утрачивает свободу и сложность своего положения между лежащей под нею жизнью и высшим духовным началом и свободу вопрошания в обе стороны”.
И не стоило бы Степаняну отвечать на критику так прямолинейно и резко, попутно выражая недоумение, что такова позиция литератора, “весьма далекого от позитивизма”, перечеркивая возможность любого диалога: “Для меня и для тех, чьим единомышленником я имею честь себя считать, нет двух „сторон”: жизни и высшего духовного начала, вся жизнь человеческая в каждое ее мгновение есть акт веры (или неверия), и за пределами Божьего мира есть только пустота”.
В связи со всем этим вынужден ясно размежеваться или “определиться”: не считаю себя единомышленником (полагаю, что в нашем ремесле единомыслие вредно) Степаняна, хотя мне и многое симпатично в его концепции “реализма в высшем смысле слова” Достоевского, в его просветительской, даже подвижнической деятельности, в его преданности. Понимаю, что горячность и полемические крайности здесь органически связаны с преданностью слову Достоевского.
Даже тогда, когда трудно согласиться с некоторыми мнениями и выводами Степаняна (разногласия в порядке вещей, норма), они плодотворны и интересны. “Загадочный”, “таинственный” роман “Идиот” в центре книги, автор которой знакомит читателя с многолетним, отчасти носящим личный характер, процессом постижения художественной правды произведения, смысла формулы “Князь Христос”, так по-разному интерпретируемой литературоведами и богословами, историками литературы и религии. Роман, по мнению Степаняна, “задумывался как изображение распятия или жертвоприношения (как символически трактуется заклание Христа-агнца)”, и в этом есть немалая доля истины. Вряд ли в романе “Преступление и наказание” Достоевский “решал многие проблемы человеческого бытия еще достаточно легко ” (не понимаю, где удалось автору там увидеть легкость), с позиции “сверху вниз”, но вполне вероятно, что писатель, завершив свой первый великий и во всех отношениях совершенный роман, “принял мужественное решение: спуститься в самый низ метафизических отрицаний и сомнений, в самое „горнило сомнений” — повлияли, конечно, и Ренан, и воспоминания о Штраусе, и Гольбейн, увиденный в Швейцарии, а может, иначе было просто нельзя — и оттуда попробовать найти путь наверх; в какой-то степени отражением этого были замыслы „Жития великого грешника” и „Атеизма””. А более всего, разумеется, отразил драматические поиски роман “Идиот”, в который Достоевский хотел душу “положить”.
Сказано хорошо, проникновенно. Как тут не согласиться. Но согласиться могу лишь с общей постановкой темы, а не с трактовкой трагедии Мышкина и других героев романа. Степанян, в очередной раз повторив тщательно собранный “компромат” на Льва Николаевича Мышкина (ускорил смерть Настасьи Филипповны от ножа Рогожина, как и бегство Аглаи на Запад, к “иезуитам”, да и бедного генерала Иволгина до глубины души потряс мягкостью, а надо было бы ему правду-матку высказать, а не потворствовать невольно лжи, ублажая дьявола, и Ипполиту Терентьеву такие странные слова сказал о том, чтобы тот прошел мимо и простил “пирующим” их счастье, кажется, только Коля с ежиком и уцелел из доверившихся князю), с душевным вздохом вынужден признаться: “Допускаю, что видеть в этом вину Мышкина откажется половина прочитавших эти строки”. Мне почему-то кажется, что не половина, а процентов девяносто читателей с самым различным “духовным потенциалом” не признают “вины” Мышкина; не помогут их переубедить и отсылки к авторитетным мнениям “единомышленников” автора (в той или иной степени), тщательно подобранные Степаняном. Но это нисколько не мешает говорить о правомерности его точки зрения, впечатляюще обозначенной и развернутой в разных частях книги.
Книга Степаняна — итог многолетних исследований литературоведа и критика, запечатлевший не только эволюцию взглядов автора (в свернутом или штрихами обозначенном виде), но и движение литературоведческой мысли, изменения наших представлений о русской классике, Достоевском, мире. Изменения большие и чрезвычайно выпукло, отчасти даже с прямолинейным простодушием отраженные в статьях, эссе, рецензиях и полемических заметках Степаняна. Это современное представление о “реализме в высшем смысле”, искусстве слова Федора Михайловича Достоевского, — представление, со всеми присущими ему достоинствами и недостатками, во многом отличное от того, которое господствовало в 1970 — 1980-е годы, во время наивысшего интереса русского читателя к классической литературе (усиленно тогда читавшего, проглатывавшего горы литературы; сегодня такого напряженного внимания к художественному слову нет, и лишь иногда происходят локальные вспышки — реакция на более-менее удачную, попавшую в тон новым настроениям и вкусам телеверсию классического произведения). Какие-то краски исчезли или поблекли — осанна и славословие утомляют, порождая зевоту, а в книге Степаняна еще и всецело устранена комическая стихия, в большой степени присутствующая в художественном мире Достоевского. Страстно приподнятый перст, указывающий “правильную” дорогу, вызывает неодолимое желание куда-нибудь свернуть в сторону и тоску по отмененной полифонии (надеюсь, временно, ведь “поток жизни неудержим”).