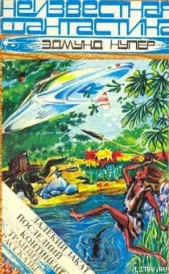Новый Мир ( № 5 2006)
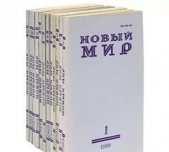
Новый Мир ( № 5 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1870-е годы и сам Достоевский не только настойчиво противополагал свой “реализм”, пророческий и духовный, реализму тех, кого он считал бытовиками, натуралистами (Писемский, Гончаров, Островский), но и в более общем плане русскую литературу — западной. Этими суждениями Достоевского, абсолютно соглашаясь с ними, Степанян дорожит, много раз их цитирует, видимо боясь, что невнимательный читатель что-то важное пропустит. В частности, необыкновенно ценными, помогающими уяснить cуть “реализма в высшем смысле” (да так оно и есть) представляются ему такие, явно черновые, мысли Достоевского в записной книжке: “Реализм есть фигура Германна (хотя на вид что может быть фантастичнее), а не Бальзак. Гранде — фигура, которая ничего не означает”.
Но все же это слишком горячее и именно “черновое” противопоставление: заметка Достоевского для себя, смысл которой открывается к тому же во вполне определенном контексте, который Степанян опускает, предпочитая обратиться к мысли Сергея Булгакова о язычестве, страждущем психологизмом (своего рода “западной” болезнью), и немного (совсем немного) уточняя языческий статус Бальзака: “Не стану, конечно, напрямую сравнивать Бальзака и других „психологов” с язычниками (это очень сложная тема), но реальное постижение человека в литературе, провозвестником которого был Пушкин и которое утверждено Достоевским, освещает новым светом иные творческие методы”. Смысл рассуждений, носящий несколько абстрактный и обобщенный характер, ясен, является переводом на современный литературоведческий жаргон высказываний Достоевского, который, однако, никогда не подозревал ни Бальзака, ни Гюго, ни других французских писателей-психологов в “язычестве” — да и странно в создателе “Деревенского священника”, “Луи Ламбера”, “Кузена Понса” и особенно высоко всегда ценимого Достоевским “Отца Горио” обнаруживать нечто языческое.
Столь резкое (единственное, добавлю) суждение Достоевского о “Евгении Гранде” Бальзака обусловлено вполне конкретным полемическим контекстом. Достоевский полемизирует со статьей Э. Золя “Жорж Занд и ее произведения”, полемизирует с эстетическими принципами французского натурализма, подчеркивавшего свое родство с произведениями Бальзака. Отсюда и предельная заостренность формулировок, где достается как Золя, так и его “учителю” Бальзаку, к которому Достоевский здесь пристрастен и несправедлив. Как хорошо известно, незадолго до смерти, обдумывая Пушкинскую речь, он — уже не в полемическом ключе — вспомнит диалог Бьяншона и Растиньяка в Люксембургском саду, где фигурирует китайский мандарин. Этот диалог был весьма памятен Достоевскому. Разговор в одном “плохоньком трактиришке” между студентом и молодым офицером, “случайно” подслушанный Раскольниковым, — прямая параллель беседе молодых героев в романе французского писателя: как точно писал Леонид Гроссман, “парафраз бальзаковской беседы о мандарине с тем же заключительным ответом”.
Степаняну, разумеется, все это хорошо известно, но он в угоду своей концепции затушевывает одни факты и выделяет другие — считает более важным то, что Достоевский удалил из окончательного варианта Пушкинской речи бальзаковский пассаж. Удаление, бесспорно, не было случайным, и оно слишком поверхностно объяснено в академическом комментарии стилистическими и композиционными соображениями. Думаю, что сокращение бальзаковского отрывка было предопределено: Достоевскому крайне необходимо было курсивом выделить, что ответ Татьяны был именно ответом русской женщины, в котором выразилась “русская правда”, и сопоставление его с ответом бедного французского студента невольно вносило нежелательный “европейский” элемент, нанося некоторый урон апофеозу пушкинской героини и концепции речи. Это, конечно, существенно, но, представляется, еще значительнее, что Достоевский вспомнил — невольно и неизбежно — роман Бальзака, и не где-нибудь на обочине речи, а в самый ее кульминационный момент, что говорит об удивительной устойчивости литературных симпатий и пристрастий Достоевского, эмоционально и исповедально запечатленных еще на страницах писем 1830-х годов. И в одном ряду с Данте, Шекспиром, Сервантесом, Мольером, Шиллером, Гёте здесь должен быть назван Бальзак, с перевода романа которого “Евгения Гранде” и началась литературная деятельность Достоевского. Отодвигая в тень эти и другие факты, легко можно пропустить нечто существенное и в становлении метода Достоевского, его “реализма в высшем смысле”. Очевидно, что в черновых набросках к Пушкинской речи Бальзак стоит рядом, сопоставляется с Пушкиным. Степанян Бальзака “конфискует”, больше симпатизируя другому черновому наброску, где они резко противопоставлены. И в этом предпочтении ясно вырисовываются тенденция книги и пристрастия автора.
“Специфика западного сознания” явно смущает Степаняна (оттуда, с Запада, всё по большей части исходят соблазны — духовные и материальные, только некоторые католические писатели — Гуардини, Барсотти — составляют исключение); он предпочитает оставаться на родной почве. Естественно, только Пушкин по сути назван предтечей “реализма в высшем смысле”, достигшего наивысшего развития в творчестве Достоевского 1860 — 1870-х годов. Не реальный Пушкин 1820 — 1830-х годов, а Пушкин, увиденный глазами Достоевского, Пушкин, так сказать, начитавшийся Достоевского, Пушкин, загримированный под Достоевского, Пушкин, вобравший в себя духовный опыт Запада и Востока. И такой Пушкин действительно дает ключ к творческому методу Достоевского. Степанян это превосходно демонстрирует в одной из самых значительных своих работ — сопоставительном этюде “„Борис Годунов” и „Братья Карамазовы””.
Закономерно и убедительно сопоставление самозванцев-бунтовщиков у Пушкина и Достоевского. Бесспорно, что вся трагедия Пушкина “пронизана темой детских мучений и страданий или призывами к насилию над детьми”, что “Борис Годунов” — “трагедия самозванства, разъединения и саморазрушения людей”. Абсолютно оправдан и необыкновенно важен и вывод автора: “И у Пушкина, и у Достоевского кажущемуся, временному апофеозу самозванства отвечает — молчание. В двух величайших произведениях русской литературы, разделенных почти полувековым сроком… „правде” самозванства дан один и тот же ответ — молчание, осуждающее и „снимающее” самозванство”.
Многое привлекает и в других работах Степаняна (особенно вошедших в первый раздел). Так, справедливой и хорошо обоснованной представляется мысль, высказанная в статье об “Идиоте” и Ренане, что “Жизнь Иисуса” французского философа и писателя явилась своего рода отправной точкой для романа “Идиот” (также верно замечено, что Ипполит Терентьев “излагает по существу теорию Штрауса — Ренана”). Останавливает внимание и насыщенная интересными наблюдениями и гипотезами работа “Категория существования в романе „Бесы””, которую открывает сюжет о так называемом “Евангелии детства”. Евангелие упомянуто Достоевским в одном замысле 1874 года (оставшемся неосуществленным, но его отголоски явственно звучат в “Бесах”, “Подростке”, “Братьях Карамазовых”), особенно выделен писателем один мотив: “Искушение дьяволово, глиняная птица перед нищими духом”. Совершенно очевидно (об этом скупо сказано и в комментарии к академическому 30-томнику), что речь идет здесь об Иисусе, который, играя с детьми, вылепил из глины воробьев и затем сотворил чудо — оживил их. Степанян ставит целый ряд вопросов перед комментаторами, так как остается неясным, по каким источникам знал Достоевский это апокрифическое Евангелие, и высказывает предположение о возможном знакомстве писателя с возникшим в раввинской среде анти-Евангелии “Тольдот Иешу”, где упомянута оживленная мальчиком Иисусом глиняная птица.
Доказать знакомство Достоевского с “Тольдот Иешу” затруднительно и вряд ли возможно, что, впрочем, нисколько не мешает согласиться с высказанной Степаняном очень важной и бесспорной мыслью о том, что в облике главного героя “Бесов” — Ставрогине — есть ассоциации с Мессией апокрифических и нехристианских текстов. Что же касается глиняной птицы, которую оживил Иисус, то об этом Достоевский слышал еще в омском остроге от братьев Алея, дагестанских мусульман, с удовольствием рассказавших ему, “что Иса был Божий пророк и что он делал великие чудеса; что он сделал из глины птицу, дунул на нее, и она полетела… и что это и у них в книгах написано. Говоря это, они вполне были уверены, что делают мне великое удовольствие, восхваляя Ису…” (в академическом комментарии отсылают к сутре III Корана, где повествуется о Мессии Исе, совершающем разные чудеса). В “Записках из Мертвого дома” Иса, оживляющий птицу, скорее сюжет комический. Позднее комическое исчезает и звучит мотив дьяволова искушения, отчасти даже мотивы подмены, самозванства, непосредственно подводящие к кульминационной “поэмке” о великом инквизиторе и Христе Ивана Карамазова, о чем подробно и обоснованно размышляет Карен Степанян в этой и других частях своей книги.