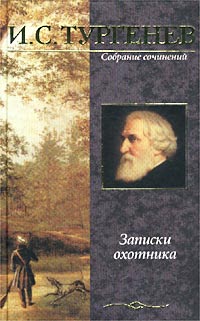Чары. Избранная проза

Чары. Избранная проза читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обнажилось!
Надо сказать, что и в характере бабушки появилась черта весьма странная и даже идиотическая, если употреблять это слово в том значении, в каком употреблял его уже упоминавшийся нами классик экзистенциального метода. Подобная идиотичность, собственно, и позволяет разгадать в несчастном князе, наделенном каллиграфическим почерком, падучей болезнью и смешной мышиной фамилией, человека закутка, а в обтрепанном пальто и войлочных ботинках, которые я ношу, усмотреть навязчивое сходство с гардеробом юродивого.
Иными словами, идиотичность тоже оказывается категорией существования, а именно в таких категориях и следует рассматривать любые странные черты.
Любые — включая и ту, которая обозначилась в характере бабушки. Хотя бабушка редко болела и почти не обращалась к врачам, я хорошо помню, что она очень любила прилечь. Точно так же, как дедушка целыми днями читал мистические книги, она целыми днями лежала, и вовсе не в какой-то тоске, отчаянии, меланхолической задумчивости, а просто так — калачиком свернувшись на диване, уткнув колени в плюшевый коврик, висевший на стене, укрывшись вязаной шалью и подложив под щеку сложенные ладони. Причем она даже не отдыхала, как отдыхают после трудной работы, а именно лежала, безразлично разглядывая завитки обоев, тень от оконной рамы на занавеске и трещины в потолке.
Сейчас мне уже доступен экзистенциальный смысл ее лежания, но тогда я упорно не мог понять, почему я хнычу, плаксиво вытягиваю губы и тяну бабушку за рукав, упрашивая ее погулять со мной во дворе, она же в ответ улыбается, гладит меня по голове и наотрез отказывается встать с дивана.
— Ну, пойдем! Ну, пойдем! Пожалуйста! — продолжаю я хныкать и дергать ее за рукав, исподволь внушая, что согласие — единственный способ избавиться от моего капризного, настырного, невыносимого для ушей плача.
А она все равно отказывается, как будто необходимость вставать и одеваться досаждает ей гораздо больше, чем подергивания за рукав и плаксивые просьбы.
— Попроси лучше маму.
— Я хочу с тобой.
— Со мной ты гулял вчера.
— Я хочу сегодня.
— Сегодня я не могу. Не упрашивай.
— Почему? Почему не можешь?
— Сегодня плохая погода.
— А ты сама говорила, что в плохую тоже надо гулять. Только получше одеться.
— Нет, сегодня я не пойду.
— Почему не пойдешь?
— Я тебе уже сказала.
Разговор наш явно заходил в тупик, но мне так и не удавалось уяснить, почему бабушка так упорно отказывается встать с дивана. Продолжая недоумевать по этому поводу, я уже во взрослом возрасте столкнулся со следующим недоумением и долгое время не мог связать странную склонность бабушки к лежанию на диване с тем, что в молодости она, по рассказам близких, была писаная красавица, франтиха, ветреница и непоседа. Тогда она носила открытые платья с бантом на груди, модные шляпки, отороченные мехом ботинки на застежках, закрывала лицо вуалью, обожала поклонников, комплименты, балы, маскарады, и дома ее было не удержать. Ах, на нее решительно все оглядывались, когда они с дедушкой проезжали в коляске по главной улице Орла, где они когда-то жили! Да, стук копыт по булыжнику, широкая спина краснолицего извозчика, угрюмо потряхивающего вожжами, статный красавец дедушка, молодецки распушивший усы, и закрытое вуалькой раскрасневшееся лицо бабушки, притворно равнодушной к тому, что ее считают первой красавицей города и законодательницей городской моды…
Красавица-бабушка, оберегаемая преданным мужем, окруженная поклонниками и воздыхателями, привыкшая к исполнению всех ее прихотей, — казалось бы, у нее-то должна быть счастливая и беспечная жизнь, похожая на вышитую гладью дорожку, которой по праздникам накрывают буфет. И только став окончательно взрослым и умножив на восемь свои пять лет, я нашел объяснение странных черт бабушки в том, что и ее коснулась шершавинка, шероховатинка жизни, и перед ней обнажилось ноздревато-серое вещество, в безразличном созерцании которого она и провела последние годы.
В темноте… внезапно… прикосновение
Вуаль, отороченные мехом ботинки, модные шляпки — это, конечно, десятые и отчасти двадцатые, о которых — не знаю уж почему — сама бабушка вспоминала гораздо чаще, чем о тридцатых. Может быть, это объяснялось тем, что тогда она еще не испытывала удушья, не задыхалась от катастрофического отсутствия жизни, восполняемого выдуманными страстями и ложными подвигами, и двадцатые были для нее тем временем, когда она жила? А может быть, она вспоминала потому, что ей было невыносимо, мучительно трудно жить, воспоминания же рождали отрадное чувство облегчения?
Так или иначе, но рассказы бабушки всегда вызывали в моем воображении и такую картину: остывшая буржуйка с торчащей из ее зева ножкой венского стула, остывший чай в граненом стакане, мигающая керосиновая лампа, отбрасывающая на стены, причудливо увеличенные тени, и за столом молодая женщина в накинутой на плечи шубе и мужчина в перелицованном офицерском кителе и брюках со споротым кантом — будущие родители моей матери, уже покинувшие родной Орел и оказавшиеся в Москве, на Малой Молчановке.
Да, и прокладка узкоколеек, и мистические книги, и странное нежелание подниматься с дивана — все в будущем; а пока за окнами мгла, в лунном свете чернеют покосившиеся заборы, метет поземка, со скрипом раскачивается на ветру разбитый фонарь, жмется к фонарному столбу бездомный пес. Слышатся выстрелы и крики: зовут на помощь. Мужчина напряженно прислушивается, а женщина испуганно крестится и прижимает к груди его руку.
Словом, нечто похожее, вполне соответствующее нашему представлению о том времени и все-таки — недостаточное, поскольку нас интересует не внешнее течение жизни, а ее евангелические отсветы и экзистенциальная подоплека. Мы хотим застать мужчину и женщину не в ту минуту, когда они собираются затопить буржуйку и согреть чаю, а в то непостижимое мгновение, когда они чувствуют таинственное касание жизни, похожее на прикосновение крыльев ночной бабочки.
Именно в темноте… внезапно… прикосновение к лицу шершавых крыльев. И вот тут-то нам открывается, что эта фиолетовая бабочка-жизнь, порхающая над пламенем ночника, и есть как бы мистическая душа двадцатых. Странная, с бархатистым, отталкивающе-красивым тельцем и уродливой непропорциональной головой, она словно обезумела от мигающего пламени и сама не знает, куда она рвется — вверх или вниз.
Так же и сидящие за столом еще ничего не знают, и их души как бы проносятся в забытьи между жарких языков пламени, лунным светом и холодным звездным сиянием, и неизвестно, что суждено им — сгореть дотла или превратиться в мертвые глыбы льда. Поэтому они полны лишь смутных предчувствий и тревожных догадок, и вещество жизни окрашено для них в фиолетовые тона предрассветного неба, едва тронутого розовым утренним солнцем…
Глава седьмая
ДВЕ ФОТОГРАФИИ
Белый железнодорожный китель
Дедушка умер через несколько лет после своего возвращения, и я помню, что перед смертью он повел меня фотографироваться. Почему-то ему вдруг захотелось сфотографироваться со мной, очень захотелось, ну просто приспичило, что называется. И он всполошился, озаботился, забеспокоился, велел меня получше одеть, причесать мокрой расческой (чтобы хотя бы немного усмирить мой непокорный хохол), и сам надел свой белый железнодорожный китель. А если дедушка надевал белый китель, значит, случалось что-то небывалое, совершенно невероятное. Вот и на этот раз — случилось, и все в доме притихли, присмирели, а дедушка взял меня за руку и повел на Арбат к фотографу. Тот нас долго усаживал перед своей треногой с таинственным фиолетовым колодцем объектива, делал какие-то пассы, примеривался к нам, присматривался, прикидывал, что-то мурлыкал, сыпал прибаутками. Говорил: «Теперь мы улыбаемся», хотя при этом улыбался лишь он сам, а мы, застывшие как истуканы, в полуобморочном страхе ждали, когда же, наконец, свершится, что-то щелкнет, вспыхнет, оставляя в воздухе вьющийся дымок и запах сгоревшего магния, и он, мучитель, нас отпустит…