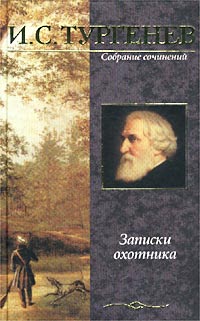Чары. Избранная проза

Чары. Избранная проза читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Угловатый, неловкий, вытягивающийся мальчик, я носил в себе эту любовь как колдовское заклятие, вынуждавшее меня быть таким, каким я вызывал больше всего упреков, укоризненных взглядов, досадливых жестов и раздраженных восклицаний: «Не так… не туда… не с той стороны… ты снова все перепутал!» Слыша над собой эти возгласы, я весь словно сжимался, втягивал голову в плечи, и меня охватывало то жуткое и блаженное оцепенение, которое заставляет делать именно то, чем ты можешь особенно раздражить, раздосадовать, навлекая на себя все новые и новые упреки. И тебе от этого вовсе не плохо, а наоборот — странно хорошо и спокойно, словно негодование взрослых там отзывается тайной радостью и умиротворением здесь. Эта тайная радость возникала от сознания, что ты есть и что ты такой, и в те минуты, когда другим ты кажешься невыносимым, сам ты пребываешь в тихом блаженстве единения с самим собой. И хотя они тебя еще не простили, ты их давно простил, и тебя покалывает сладкий холодок любви и к себе, и к ним, безучастным хранителям твоего колдовского заклятия.
Я — заколдован.
Побыть их сыном!
Уверенность в этом овладевала мною, когда мы втроем — мать, отец и я — гуляли по бульвару и я одной рукой крепко держал за руку мать, а за другую руку меня держал отец, немного обиженный тем, что ему досталась такая вялая, холодная и выскальзывающая рука. Поэтому он вовсю старался меня растормошить, приободрить и раззадорить: «Давай наперегонки до угла дома! Ну?!» — я же упрямо отказывался, еще сильнее прижимаясь к матери, волочась за нею, как чугунная гиря, и не выпуская ее руку, даже если она хотела погреть ее в кармане или надеть перчатку. В конце концов, мать была вынуждена остановиться, вздохнуть и произнести уже тысячу раз произнесенное: «Не висни. Мне тяжело. Какой ты у меня неуклюжий!»
То же самое повторялось, когда знакомые мальчишки свистели под окнами, вызывая меня во двор, а я неподвижно сидел возле матери, строчившей на швейной машинке, и заворожено смотрел на ее отставленный в сторону локоть и склонившуюся над выкройкой голову, любуясь каждым ее движением и тем самым мешая ей сосредоточиться на своем занятии. «Опять я из-за тебя все испортила! Пойдешь ты, наконец, гулять? Что ты сидишь возле меня, как красная девица!» — негодовала и сокрушалась мать. И хотя сравнение с красной девицей было очень обидным и задевало мое самолюбие, я не предпринимал никаких попыток доказать его несправедливость. Я лишь слегка отводил в сторону взгляд и нехотя прислушивался к свисту мальчишек, обозначая обманчивую готовность пойти гулять, чтобы дать ей сосредоточиться, а затем снова посмотреть на нее и, пока она не рассердилась, украдкой полюбоваться ею.
Так же я любовался матерью, когда мне удавалось застать ее в минуты рассеянной задумчивости или отрешенного созерцания посторонних предметов, случайно попавших ей на глаза: цветочного горшка на подоконнике, ключика со сломанной бородкой, выпавшего из дверцы буфета, картонной коробки от пастилы, в которой ползала залетевшая в форточку оса, шелестя прозрачной бумагой. В такие минуты и сам я погружался в созерцание, только не предметов, а матери, и лишь когда ей удавалось перехватить мой взгляд, осторожно переводил его на предметы, как бы придавая им ее облик. Мне хотелось, чтобы неуловимые черты матери присутствовали и в цветочном горшке, и в дверце буфета, и в картонной коробке, хотелось, чтобы я угадывал ее выражение во всех вещах — диванах, стульях, столах. И действительно присутствовали, и действительно угадывал, и спинка дивана словно повторяла изгиб ее руки, круглая крышка стола — очертания лица, а резная завитушка стула — косточку на запястье.
Но самое удивительное, загадочное, непостижимое заключалось в том, что я не только видел отражение матери во всех предметах, но и слышал в их названиях отзвуки ее имени — особенно в названиях, начинавшихся на «а» и таивших в себе волшебную завязь, зародыш имени Ангелина… Ангелина Тихоновна… Ангелина Тихоновна Павлова (в девичестве — Петрова). Имя матери я произносил по тысяче раз в день, произносил с восторгом и обожанием, но это было лишь началом тех экзистенциальных превращений, которые претерпела моя детская любовь к ней. И стоило матери меня несправедливо отчитать, отшлепать, поставить в угол («Стой и не поворачивайся, пока мы тебя не простим!») или даже дать мне ремня, как именовался в нашей семье самый суровый способ наказания, и я оказывался во власти мучительных экзистенциальных сомнений: неужели то самое-самое, материнское, родное способно так неузнаваемо исказиться или вообще исчезнуть?! Пусть не навсегда, а лишь на минуту, полминуты, секундочку, но без нее уже не будет вечности. Что же это за вечность, в которой недостает секундочки! Вот так же и материнской любви мне теперь недостает. И хотя мать сама жалеет о случившемся и старается загладить свою вину, усаживая меня к себе на колени, делая смешные рога из моих непослушных вихров, в знак дружеского примирения, касаясь носом кончика моего носа я не могу избавиться от мысли, что она уже не самая красивая, добрая, справедливая, и ее отражение в вещах для меня гаснет, и я не слышу отзвука ее имени в предметах, название которых начинается на «а».
Я даже завидую другим мальчишкам, у которых другие матери, кажущиеся мне и красивее, и добрее, и справедливее, и я все чаще ловлю себе на том, что мечтаю побыть их сыном. Побыть хотя бы немного, совсем немного, всего лишь часок. И поэтому в то время, когда мальчишки бегают по шумному, завешенному сохнущим бельем двору, валтузят спущенный мяч, обсыпанный кирпичной пылью от ударов об стену, гоняют, обруч крюком из толстой проволоки или неистово крутят педали своих велосипедов, радуясь малейшей возможности вырваться из-под надзора, я незаметно подсаживаюсь к их матерям и как бы заменяю им сына. Да, я готов отдать все, лишь бы они, оставив без внимания собственных сыновей, взяли меня под свой надзор. И меня окатывает волна жгучего и самозабвенного восторга при мысли, что на это время я их сын и поэтому имею полное право любить этих далеких, недоступных и необыкновенных женщин. Мне даже хочется взвизгнуть, залаять, укусить их за руку, так сильна во мне любовь, но я не смею и пошевелиться, опасаясь неосторожным движением выдать, что я их временный сын и поэтому никакого права на них не имею.
Пуговка
Так другие матери превратились для меня именно в женщин, моя же мать осталась просто матерью, доступной, близкой и — обыкновенной. И моя восторженная любовь к ней, готовность отстаивать, восхвалять, превозносить перед всеми ее неземные достоинства сменились трезвым сознанием ее недостатков, и я стал судьей и разоблачителем той, которая недавно вызывала мое обожание и преклонение. Судьей — суровым и неподкупным, разоблачителем — насмешливым и едким. И это продолжалось до тех пор, пока не свершилось еще одно превращение, спасительное для меня, уставшего судить и разоблачать и неспособного вновь полюбить. Когда ко мне, уставшему и ни на что не способному, все настойчивее подступало, подкрадывалось на мягких кошачьих лапах то самое экзистенциальное отвращение к жизни, которое испытывает человек перед самоубийством, меня внезапно коснулся ее евангелический отсвет. Не знаю, кем он был послан — Матфеем, Марком, Лукой или Иоанном, но мне открылось, что мать-то у меня совсем старенькая и поэтому не любить ее теперь надо, а жалеть.
Не любить, а жалеть — вот ведь какая штука! Помню, в это время мы пили чай, и мать сидела напротив меня под накрытой оранжевым абажуром лампой, высвечивавшей все ее морщинки и седины. Сидела и держала в руке чашку — такую же старенькую, пожелтевшую, в трещинах, как и она сама. И вот открылось: жалеть, жалеть — и от души, словно высушенная и затвердевшая корка, отпала мучительная экзистенция. Я посмотрел на мать, которая, слегка вытягивая губы, дула на горячий чай и отпивала его маленькими глотками. Посмотрел на ее туго стянутые и заколотые костяным гребнем (тем самым — с длинными извилистыми зубьями) волосы, на ее руку, державшую чашку, на белую кружевную манжету с болтавшейся, наполовину оторванной пуговкой, — и меня пронзила жалость, еще более острая, чем любовь. Жалость к седым волосам, подрагивающей, слабой руке и особенно — к болтавшейся пуговке. Почему-то именно пуговка вызывала во мне особенно острую, взвинченную и даже восторженную жалость, и мне было страшно, что сейчас, на моих глазах, она совсем оторвется. Оторвется, упадет, закатится под диван — страшно было это представить, словно на такой же ниточке висела, и жизнь моей матери. «Только бы она подольше не умирала… только бы подольше…» — думал я, и впервые мысль о смерти не соединялась в моем сознании с привычным отвращением к жизни.