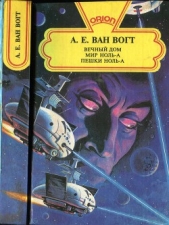Час ноль

Час ноль читать книгу онлайн
Действие нового романа Герда Фукса происходит на западе Германии в 1945–1949 гг. Автор показывает, как местные заправилы, процветавшие при гитлеровской диктатуре и на короткое время притихшие после ее падения, вновь поднимают голову. Прогрессивно настроенные жители деревни постепенно приходят к выводу, что недостаточно было просто победить фашизм — необходимо и дальше продолжать борьбу за демократию и справедливость, за полное преодоление позорного нацистского прошлого.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ханна была права. Когда Хаупт объявил ей, что переселяется с Георгом вниз, первой ее мыслью было — там он будет недостижим. Впрочем, даже ей самой это показалось тогда сильным преувеличением, однако факт оставался фактом: в этот дом она заходила крайне редко. Если они встречались, то у нее. Но была здесь и другая причина. О Дорлис Рёш они, правда, больше не говорили, но забыть невесту Хаупта окончательно не могли.
Тогда в гостинице Хаупт едва узнал ее. Вместо худенькой, чем-то вечно удрученной девушки, с которой он обручился перед отправкой на фронт, в третьем номере гостиницы «Почтовый двор» сидела веселая, энергичная молодая женщина.
— Ты что, не узнаешь меня? — удивилась Дорлис Рёш, заметив выражение его лица.
Он познакомился с ней во Франкфурте на семинаре по английскому языку. Она сидела напротив, и он скоро заметил, что она не читает. Она сидела закрыв лицо руками, и в конце концов он спросил:
— Вам нехорошо? Могу я помочь?
Отец Дорлис лежал в висбаденском военном госпитале и умирал. Она почти написала заключительную семинарскую работу, и Хаупт ее потом докончил. Иоахим, его друг, был уже призван, а Хаупт еще готовился к устному экзамену. После экзамена наверняка призовут и его. Шел декабрь сорокового года, профессор новейшей англистики появлялся на лекциях в форме штурмовиков, а в семинаре царил дух офицерского казино. Студенты считали дни до срока призыва.
— Меня бросает в дрожь, когда я вижу, как они смеются, — сказала как-то Дорлис Рёш.
Она сказала это очень тихо. В библиотеке она всегда сидела против него с того самого дня, как они познакомились. Не слыви они влюбленной парой, их сочли бы подозрительными из-за того, что они вечно уединялись. Даже траур мог быть воспринят как акция сопротивления. Иногда они встречались с Иоахимом. Сидели в кафе или отправлялись гулять. Вслух Иоахим ничего не говорил, но было заметно, что он ни на что больше не надеялся. Это был высокий, толстый, неловкий человек, юрист по профессии, всегда в очках. Он был совершенно неспособен защищаться, придумывать обычные увертки. То, как он время от времени протирал очки, показывало Хаупту, что они его доконали.
Этим трем не нужно было много говорить, чтобы понять друг друга. Дорлис стала совсем худенькой, почти прозрачной; Хаупт, случалось, провожал Дорлис в Висбаден до госпиталя, где лежал ее отец. Он ждал на улице и, когда она выходила, должен был какое-то время ее поддерживать.
Хаупт писал дипломную работу по проблемам формы в «Бедном Генрихе» [54], Дорлис тоже сбежала от националистского угара новейшей германистики в средневековье. Но избежать Папаевски ей все же не удалось. Он вел семинар по Киплингу, а ей нужен был зачет. Каждый раз после семинара ее трясло от отвращения.
— Сударыня, будьте мужественной, — прошептал Хаупт ей через стол, — все это старые штучки.
А через минуту-другую она начинала хихикать, так что издали они казались влюбленной парой. Возможно, что так оно и было на самом деле. Но Хаупт не назвал бы любовью то чувство, которое их связывало. Скорее, это было глубокое доверие.
— А ты совсем не изменился, — сказала тогда Дорлис Рёш в третьем номере гостиницы «Почтовый двор».
— Зато ты — да, — ответил Хаупт.
— Надеюсь! — воскликнула Дорлис Рёш.
А чего ты, собственно, хочешь? — спросил Хаупт сам себя. Почему бы ей и не быть веселой? Траур ее ведь должен когда-то кончиться.
Весной сорок первого года ее отец умер. Хаупт сдал государственный экзамен и был призван. Он жил в казарме неподалеку от Франкфурта и всякий раз, получив увольнение, ехал к Рёшам. Он понимал, что его ждет судьба Иоахима. Одного из инструкторов звали Паулиг.
— И кто же вы по профессии? — спросил его как-то раз унтер-офицер Паулиг.
Хаупт лежал в луже на краю казарменного двора. Унтер-офицер Паулиг демонстрировал рекруту Хаупту свою специальную систему воспитания.
— Учитель, — ответил Хаупт.
— В таком случае мы почти коллеги, — заметил унтер-офицер Паулиг. — Поднимайтесь.
Он достал из нагрудного кармана портсигар и извлек оттуда сигару.
— Вот я и говорю, свиньи в человеческом облике. Всюду кишмя кишат, — продолжал унтер-офицер Паулиг, закурив между тем сигару. — Вот, к примеру, школа, где я работал. Чем забита голова человека, если его не облагораживать? Возьмем его как сырье, как ученика. Чем забита его голова? Курением и рукоблудием. Нет ничего прекраснее, чем идти по пустому школьному коридору, прислушиваясь к шумам, возникающим, когда человека учат уму-разуму. Но хочет ли человек, чтобы его учили уму-разуму? Конечно, нет. Человек хочет выйти в сортир. И прирожденный педагог это знает. Он видит, как ученик протискивается в дверь и несется по коридору. Он видит, что мысли у него заняты только одним. Но, разумеется, прирожденный педагог никогда не скажет, чего ты хочешь, я по тебе вижу. Педагог не скажет ничего, он только сократит путь, чтобы оказаться в сортире раньше ученика. Он немножко подождет, так как знает, что происходит сейчас за дверью, а потом откроет дверь своей ручкой.
Видите ли, — продолжал Готлиб Паулиг, — дать знания — это лишь второстепенная задача школы. Первостепенная ее задача — научить человека владеть своими чувствами. Вот почему я оцениваю педагогов по двум критериям. Учат ли они учеников владеть своими чувствами, или есть в их составе такие, что полагают, будто ученик должен еще чему-то учиться. Таких кретинов у меня было полно. Преобладал еврейский элемент. Но мы быстро с ними распрощались. У оставшихся был после этого довольно глупый вид. Однако большинство скоро поняло, на чьей стороне бог.
Правда, с двумя-тремя педагогами у меня были сложности. Первого я застукал, когда он пытался пробраться в ученический сортир, педераст проклятый. Другой повесился. Понятно, слабаки встречаются всюду. Их узнаешь по числу учеников, которым они за урок разрешают выйти по нужде. И с какого-то числа они уже могли бы брататься. Могли бы, если б Готлиб Паулиг не следил. Но что вы будете делать, если поймаете такого типа с поличным? Спросите, чем он тут занимается? Или съездите ему по морде? Или скажете, что у фройляйн Винтер опять недопустимо короткая юбка?
Педагог доводит до сознания ученика, что следят не только за ним, но и за учителем тоже. Ученик не должен испытывать доверия к учителю. А учитель, который доверяет ученику, вовсе не учитель. Ученик еще необразованный, хочет выйти по нужде, вот и все. Впрочем, был у меня такой учитель музыки, при котором они вообще не просились в сортир, а мочились под парты. Но тут дело еще и в предмете.
Не хвастая, скажу: я добился прекрасных результатов. И меня не раз за это благодарили. Прекрасный был, например, миг, когда фройляйн Винтер преподнесла мне собственноручно связанный ею коврик. А господин Эберт, тот самый учитель музыки, курил, должен я вам сказать, превосходные сигары, и доктор Шпехт, который поначалу столь кисло здоровался со мной, принес мне как-то тайком бутылочку коньяку. Я часто находил кое-что на своем письменном столе. Маленькие дары любви, знаки внимания, проявленные неизвестными почитателями. В конце-то концов, педагоги относились ко мне трогательно. Но надо сказать, что у меня внизу было уютно, стоял там диванчик. Они могли поболтать о том, о сем. Не говоря уж о моих уборщицах. И тем не менее: Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes [55].
И тут Хаупт догадался, кем был в школе унтер-офицер Паулиг. Он был привратником.
— А сам педагог недооценивается, — продолжал унтер-офицер Паулиг. — Он, педагог, облагораживающий человека, не имеет права быть благородным. Понимаете, что это означает? Я же вижу ненависть в ваших глазах. Знаете, как одинок бывал я временами? Я говорю о подлинном трагизме. А от трагического до великого один шаг. Все. Свободны.
Рекрут Хаупт вытянулся по стойке «смирно», выполнил безупречный поворот и зашагал через весь казарменный двор, в грязи с головы до ног, так что его едва ли бы кто узнал.