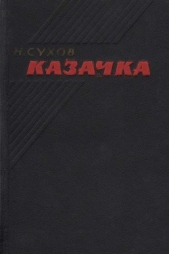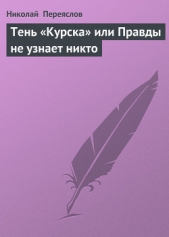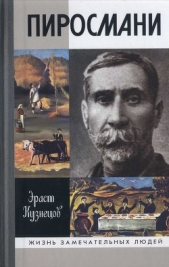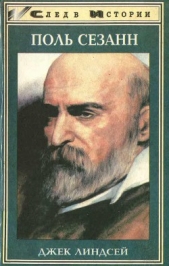Роман со странностями

Роман со странностями читать книгу онлайн
"Роман со странностями" С.Ласкина построен на документах из архива КГБ, свидетельствующих о судьбах и гибели в 30-е годы выдающихся художников Веры Ермолаевой и Льва Гальперина. Особый интерес представляют беседы автора с трансмедиумами - читателю открываются голоса погибших в ГУЛАГе художников, труднообъяснимые, но до удивления достоверные. Семен Ласкин - прозаик, драматург, киносценарист, автор 15 книг, в том числе широкоизвестной документальной повести о гибели А.С.Пушкина: "Вокруг дуэли". Последние работы Ласкина, как правило, посвящены искусству, автор не раз возвращал читателю значительные, трагически исчезнувшие имена российских живописцев, такими были герой романа "Вечности заложник" Василий Калужнин, повести "Дон Кихот Великого Двора" - художник и крестьянин Николай Макаров. В "Романе со странностями" возникают картины творческого расцвета и гибели великого искусства российского авангарда 20-30-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
СЕМЕН ЛАСКИН
РОМАН СО СТРАННОСТЯМИ
Памяти моего друга, замечательного художника и
удивительного человека Николая Ивановича Кострова.
Светлый же узнает, что нет во Вселенной пустого места и всё дух и душа везде: вода отражает звезду, и он видит душу воды, и бессмертную душу их встречи, и узнает, что для всякого бессмертия бывает воскресение в светлом.
Елена Гуро. «Бедный рыцарь»
I
Я долго мучался, не зная, с чего начинать эту книгу. Может, с того, что лет десять назад, бывая в мастерской старого художника Николая Васильевича Керова, подолгу смотрел на один удивительный холст... Сезанна. Да, да! — великого Поля Сезанна. Широкая белая полоса загрунтованного, но незаписанного пространства разделила по вертикали пейзаж надвое — казалось, Сезанн, задумывая работу, пытался решить — какой из намеченных мотивов ему стоит продолжить.
Конечно, сомнения у меня были. Трудно себе представить скромную питерскую квартиру с полотном гениального французского мастера.
Дома, разглядывая альбом московского Пушкинского музея, я вдруг сообразил, что на стене у Николая Васильевича копии двух фрагментов известных холстов. Правая — три дерева, была уменьшенным повторением знаменитого «Акведука», левая — «Горы святого Виктория».
Вот теперь я и спросил у Керова:
— Кто же это делал?
— Вера Михайловна Ермолаева, — сказал Керов, совершенно не представляя, какие муки испытал я, размышляя над странной загадкой. — В начале двадцатых она работала у Малевича. Всем сподвижникам и ученикам Казимира Севериновича нужно было прийти к супрематизму через импрессионизм и Сезанна, и они делали копии известных холстов, пытаясь понять тайны великих французов. Тогда Ермолаева и поехала из Ленинграда в Москву...
— Ермолаева? — с волнением переспросил я, зная о трагической судьбе этой потрясающей художницы.
Как оказалось, оба фрагмента были написаны в двадцать пятом году в Институте художественной культуры. Ермолаева тогда занималась «цветом». Ее отдел именовался ОЖК, отдел живописи, институт — ГИНХУКом, — все сокращалось, и в этом тоже проявлялось время. Рядом трудились Татлин, Матюшин, Мансуров, Пунин. Задачи, которые ставил Малевич и перед мастерами и перед учениками, — а это были и Стерлигов, и Рождественский, и Юдин, — решали все. Изучали главные направления в мировой живописи, делали копии классических работ.
Как же попал к старому художнику этот холст? Помнил ли он сам Веру Михайловну Ермолаеву? Ее ли это подарок?
Оказалось, работа принадлежала художнику Б. Б., который в двадцатые годы тоже занимался у Малевича. Копия могла быть подарена автором без особого повода.
Пожалуй, стоит сказать, что жизнь Б. Б., в отличие от многих гинхуковцев, сложилась более чем благополучно. И Ермолаеву, и Стерлигова, и Нину Коган, и Машу Казанскую в начале тридцатых арестовали. Ермолаева погибла. Что касается Б. Б., то он в это же время... был послан в Париж, делал там выставку, оформлял советский павильон, да и в последующие годы его отправляли то в Индию, то в Европу. Б. Б. и подарил Николаю Васильевичу этот холст. А вот почему подарил, ответить трудно, скорее всего, судьба Ермолаевой, даже в поздние годы, когда Б. Б. уже стал академиком, продолжала отчего-то беспокоить его память. Впрочем, к этому я вернусь...
Итак, Б. Б. отдал холст питерскому приятелю. Керов жил тихо, работал незаметно, никто из власть имущих у него не бывал, а если бы даже и зашел, то, вероятно, не стал бы интересоваться какой-то копией.
— А вы-то сами как объясняете его подарок? — спросил я Николая Васильевича.
Керов явно затруднился с ответом. Пятидесятые — дикое время. Холсты и постимпрессионистов, и импрессионистов прятались в запасниках, как формалистические, вредные для советского искусства. На стенах царствовал китч. Что касается Музея имени Пушкина в Москве, то на месте Сезанна расположился огромный отдел подарков Сталину к его семидесятилетию. Возможно, Б. Б. просто боялся этой вещи, как бы там ни было, но Ермолаева шла по разряду «врагов народа».
— Мы понимали, что копия великолепна, да и имя Веры Михайловны много для нас значило. Б. Б. держал ее как пустяк, висела она у него в коридоре, и тогда Анечка просто попросила холст. Конечно, чужим людям и мы имени Ермолаевой не называли, побаивались, но потом времена изменились...
Николай Васильевич внезапно спросил:
— Нравится?
— Очень!
— Вот и возьмите ее, мы уже стары, а для вас и копия может представлять интерес, тем более, что это, возможно, единственная сохранившаяся учебная работа группы Малевича, не уверен, что подобное есть даже в Русском музее.
Что к тому времени я знал о Ермолаевой? Немного. Правда, выставку ее работ в Ленинградском Союзе художников в 1972 году я хорошо помнил. Тогда оставшиеся после ареста Веры Михайловны гуаши и акварели были в основном у наследников ученицы и друга Ермолаевой, тоже арестованной в 1935-м, Маши Казанской.
Трудно забыть потрясение от листов на темы книги Лукреция «О природе вещей», прекрасные гуаши из серии «Дон Кихот». Да и ее натюрморты так и стоят перед глазами — абсолютная гармония-неожиданных сочетаний черного и белого. И пейзажи, и лодочки в далеком пространстве залива, прекрасно решенная перспектива...
Друг и «поделец» Ермолаевой Владимир Васильевич Стерлигов предложил афишу. Черная лента обвивала годы рождения и смерти: 1893—1937, роковые даты покрывал знаменитый стерлиговский купол, а по краю тоже шла черная полоса, символизирующая трагедию оборванной жизни.
Конечно, в том коммунистическом семидесятом сделанное Стерлиговым вывесить так и не удалось. И некий услужливый прикладник скромно написал фамилию художницы, а даты жизни и смерти припрятал: год тридцать седьмой говорил сам за себя. Начальство приказало «не дразнить гусей».
Хорошо помню обсуждение выставки. В Союз художников меня привел поклонник и собиратель живописи, старый писатель Геннадий Гор. Он дружил с искусствоведом Всеволодом Петровым, для него Севочкой, может, поэтому я и запомнил нервную Севочкину речь. Нет, я не хочу доверяться памяти, стенограммы творческих обсуждений продолжали жить в захламленных шкафах секции графики ЛОСХа, я отыскал забытую филиппику, позволю себе процитировать несколько его фраз: «В историю искусства возвращается творчество художника, который обладал высочайшим талантом, высочайшей культурой и изощренным профессиональным мастерством. Надо сказать, что мы уже не раз встречались с примерами возвращений и запоздалого признания огромных явлений искусства. Когда на открытии выставки я впервые увидел работы Ермолаевой, узнал о ее жизненном пути, то у меня возникала настойчивая параллель между ее живописью и поэзией Марины Цветаевой, которая вернулась в литературу после долгого забвения. Подобно тому, как русскую поэзию невозможно представить без Цветаевой, так и невозможно представить историю нашего изобразительного искусства без Ермолаевой. Без нее оно было бы неверным и неполным. Этих двух мастеров роднит многое: огненная напряженность чувства, из которого вытекает и вдохновение, волевое и энергичное мужество, строгое решение профессиональных задач. Я хотел бы указать и на глубокий национальный, русский характер творчества двух женщин. И если мы сможем рассказать о ней, то Ермолаеву ждет та же слава, что и слава Цветаевой».
Как и за что была арестована Вера Михайловна, по сути никто не знал. Где находилась тюрьма или лагерь, тоже говорилось разное. Один из искусствоведов рассказывал, будто бы она была вывезена на какой-то неведомый остров и там оставлена умирать вместе с другими политическими заключенными.