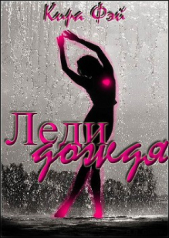Речка

Речка читать книгу онлайн
Дмитрий Ризов по профессии — журналист. Известен своими остропроблемными очерками на экологическую и экономическую тематику.
Родился в 1938 году в Ленинграде, откуда в начале войны был эвакуирован в Бугуруслан. С 1961 года его судьба связана с Прикамьем. Работал мастером, механиком на нефтяном промысле, корреспондентом газеты «Молодая гвардия», собственным корреспондентом газеты «Лесная промышленность» по Уралу.
В 1987 году в Пермском книжном издательстве вышла книга публицистики Д. Ризова «Крапивные острова», в журнале «Урал» опубликована повесть «Речка».
Повести Д. Ризова философичны и публицистичны. Это путешествие в страну Детства, где текут самые чистые реки, поют самые звонкоголосые птицы, плещется в воде самая большая рыба… Автор размышляет о главном для человека: о смысле жизни, о времени, о природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Утопают глаза в зеленом и голубом просторе. И я, захваченный своеобычной красотой, на минуту забываю обо всем на свете. Подо мною, над склоном Челяевской горы, скользит на седых крыльях с черными перьями на концах лунь, высматривая в редких кустиках челижника зазевавшуюся мышь. Из долины плывут соловьиные трели, воздух звенит от песен зябликов, пеночек, овсянок, жаворонков; на сыром лугу у подножия кричит дергач. Жарко. Мир, покой, незыблемость. В бездонном небе распластались на неподвижных крыльях коршуны. Пахнет теплой горьковатой степью. Когда Сергей Тимофеевич стоял вот так же на этом холме и, любуясь, окидывал взглядом простор своего фамильного владения, слушал долетающие сюда песни птиц, — ветер так же шумел у него в ушах, так же качалась у ног сухая, шелковистая трава и пахло степью. Только ему было не так печально, как мне, это безотчетная светлая печаль путника, сделавшего минутный привал на земле обетованной, о которой столько читано и слышано.
Мы живем в редкий промежуток времени: исчезнувшее — совсем рядом, память о нем еще совсем свежа, но то, что мы так остро помним, — уже не существует.
Такое же недоумение испытали, наверное, наши предки, убив последнего мамонта. Назавтра пришли в привычные места охоты, на обычные пастбища его, а мамонта нет. Как это нет? Ведь вчера еще был! Но его нет. На все предстоящие века, до их скончания.
Водяные мельницы на моей родине замолчали навсегда — без холеры и неурожаев… Говорят: прогресс, электрификация. Но разрушен старый речной быт, царивший веками. Тот, кто застал речки, поддерживаемые мельничными подпорами, тот меня поймет. А вот детям нашим, чтобы проникнуть в прошлое наших милых речек, уже придется вести раскопки.
Прежде при виде разрушенной мельницы в сознании людей возникала мысль о какой-то трагедии, посетившей эту местность. Как же можно без хлеба? А откуда его взять, если не будет поля и мельницы? «Кусочек поля стоит кусочка неба», а небо само отражается в мельничном омуте… Думалось: что бы ни произошло, жизнь возьмет свое, возвратятся люди, оживут мельничные жернова, зашумит вода в омуте, падая с мельничного колеса…
Через город Бугуруслан протекает речка Турханка. Было время, в ней, текущей вдоль подножия хребта, лошадей поили. В речке жили раки.
— Вак, вак!.. — орал восторженно мой дружок по улице Борис, впервые в жизни увидев живого рака в воде. Он тогда еще не выговаривал «р».
— Вак-вак! А там вачонок!
О, эти роковые «вак-вачонок», отныне они стали его кличкой на многие годы!
Подумать только: тогда в Турханке еще водились раки… Водилась и рыбешка: огольцы, пеструшки, густера, вьюны с иголочками на жаберных крышках, за что их по-собачьи звали «суками». В июльскую жару часть этой рыбешки скатывалась в Кинель, вода в Турханке сильно нагревалась. Огольцы и вьюны забивались от жары в подводные норы и, полусварившиеся, ждали там дождей, похолодания. Не многим удавалось дождаться. Иные из этих нор становились братскими рыбьими могилами, на радость турханским ракам. Но и в самый зной были в речке холодные места, там, где из дна били роднички. Жители ближайших городских домов устанавливали тут бочки без дна, края которых поднимались чуть выше речной воды. Родник заполнял бочку, переливался через край, его холодную прозрачную воду носили ведрами домой для питья.
Теперь не то что лошадей поить в Турханке, но и купать их остерегаются: грязь, зловоние, свалки на берегах. Кое-где прямо над водой стоят на столбиках деревянные туалетные домики. Ни раков, ни рыбы, омутки заилило…
10 часов 25 минут вечера. Вылетела над речкой летучая мышь. Уже приходится напрягать глаза, чтобы различать подсечки удилищ над водой.
Ночью была яркая луна. В костре жарко горел сухой вяз. Соловьи пели до утра, и до утра все принималась куковать кукушка.
Утром ондатра плавала вдоль берега с веточкой тальника во рту.
Прощаюсь с вязами над обрывом, с голавлями в воде, с дугой берега, опушенного тальником. С частью самого себя прощаюсь. Здесь навсегда остается что-то из того, что было во мне, когда я мальчишкой приезжал сюда на велосипеде, в великом азарте спеша насторожить снасти…
Прощай, дорогой… И вы прощайте, дорогие мои сотоварищи по рыбалкам. Скольких из вас уже нет на свете… А река все еще есть. Меня не будет — она будет. Но какая?
Поливальщик совхозного овощного поля сидел с удочкой на берегу Кинеля. Я заглянул в его зеленую пластмассовую плошку, там плавал улов — пескарики.
О чем же еще говорить, как не о реке, о бывших ее лугах и озерах?.. Ну, как здесь все у вас без меня?
Кинель после уничтожения мельниц запруживают лишь для того, чтобы поднять уровень грунтовых вод. Летом в городе дефицит воды. На месте бывшей Чуринской мельницы насыпается грунтовая плотина, весной ее взрывают, грунт, в основном глину, уносит речка. И без того илистая, она заилилась окончательно.
— Все родники запечатало глиной, — говорит поливальщик. — А Ерик помните?
— Ну как же его не помнить! Чудо-озеро в обрамлении камышей, полное прозрачной воды. На его восточном берегу сады, посаженные бугурусланскими толстовцами еще до революции. А кувшинки… А лилии… Теперь, говорят, белые лилии занесены в Красную книгу. Есть они еще в Ерике?
— Лилии? — переспрашивает недоуменно поливальщик. — Видали бы вы Ерик! Из него даже перестали поливать совхозные огороды. Видите в городе многоэтажные дома? — он кивнул за речку. — Понастроили, а воду из канализации очищать негде. Бывало, когда еще из Ерика поливка шла, постоишь у поливальной машины, домой явишься — на порог не пускают, будто я не поливальщик, а золотарь. В это озеро из домов сбрасывается нечисть, а из Ерика — в Кинель, там, ниже… — машет он рукой.
— Ерик там, дальше, только вы в нем ничего не поймаете, он тухлый, — поясняет мальчик.
И вот я со своим старичком-велосипедом на берегу тухлого Ерика. Фиолетовая вода, подернутая белым налетом: ни кувшинок, ни лилий, ни лягушек, ни рыбы, ни водорослей, ни водяных жуков, ни садов за Ериком. Вода мертва. Зловоние.
И вдруг стайка чирков поднимается с гнойной воды. Потом еще две утки взвились в воздух из-под ветвей клена, склонившегося к воде. И еще две — одна из прибрежной травы, другая — прямо с воды. Кому придет в голову охотиться на тухлом Ерике? Сообразительные чирята!
…Но вот и временную запруду перестали на Кинеле возводить. Пробурили артезианские скважины в другом месте, там, где нет связи между грунтовыми водами и уровнем речки. И Кинель окончательно обмелел, будто с лица спал. Дети в жару барахтаются на тинистом мелководье.
…Коричневая дорога, опушенная по бровкам полынью. Хребты, как крупы гигантских животных, утонувших в земле под собственной тяжестью. Заросли цикорием воронки, следы боев 19—20-го годов. В воронках мы когда-то катались на велосипедах. Тень от горы наползает. Солнце оседлало гору, готово сползти по ту ее сторону. Тень от нас с велосипедом — предлинная. Щурки кричат. И чудится мне запах свежей коровьей лепехи.
Дорога вдоль Мочегая. Вела она когда-то к мельнице. Укатана дорога. Вся будто выстлана аккуратными черноземными плитками. С дороги видны петли Мочегая, перекаты.
Только здесь на сердце моем разглаживаются морщины. Только здесь оно так светло и горько печалится. Какая невозможная смесь скорби по ушедшему и радости узнавания оставшегося! Есть драгоценные безделицы, без которых мы, деловые и практичные люди, жить не можем. Время слишком быстро стирает наши следы.
Я не могу жить без родины. Не вне родины, а без нее, зная, что ее, той, какую я знал и всегда любил, нет уже! Исчезнут остатки прежних ее примет — кем я тогда стану? Машиной?
…Как зигзаг молнии — росчерк оврага на теле горы. Высоко подпрыгивают маленькие лягушата на пологом мокром: берегу Мочегая.