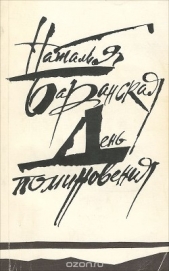День поминовения
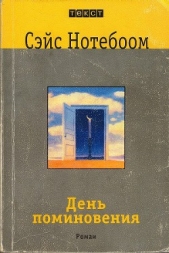
День поминовения читать книгу онлайн
Действие романа происходит в 90-х годах XX века в Берлине — столице государства, пережившего за минувшее столетие столько потрясений. Их отголоски так же явственно слышатся в современной жизни берлинцев, как и отголоски душевных драм главных героев книги — Артура Даане и Элик Оранье, — в их страстных и непростых взаимоотношениях. Философия и вера, история и память, любовь и одиночество — предмет повествования одного из самых знаменитых современных нидерландских писателей Сэйса Нотебоома. На русском языке издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А теперь ты уже не беременна.
В его словах не было вопроса, чтобы знать ответ, не нужно было ни изучать ладонь, ни заглядывать в карты. Об него вдруг ударился мяч, зеленый с синим, пластиковый земной шар, и отскочил, и покатился прочь быстро-быстро…Они шли дальше, не говоря ни слова, вдоль длинной стороны прямоугольного пруда. Люди в лодках, парочки, инвалидные кресла, пение, аплодисменты. У монумента они сели, два туриста, маленькие живые фигурки среди громадных скульптур. Кто-то их сфотографировал. По углу разворота фотоаппарата Артур понял, что они точно попали в кадр, детали памятника, чье молчание на снимке незаметно.
Ну вот к душам моих двоих близких на том свете и прибавился еще один дух, подумал он, но мысль эта была богохульной. Существо, не имеющее даже формы, — это никто, у него нет прошлого и потому его нельзя считать духом. Нельзя в смысле «невозможно» или «запрещено»? Возможно-то возможно, если подключить к делу ворбражение, однако на это наложен запрет. Как это представить себе — существо, которое так и не стало существом?
Она сидела неподвижно и смотрела прямо перед собой. Он хотел прикоснуться к ее руке, но она только отодвинулась подальше.
— Ничего особенного, — сказала она. — Я приняла решение, и не только из-за себя. У тебя в Берлине я хорошо изучила ту фотографию. Это не моя жизнь. Я бы все равно не смогла дать тебе ребенка, который заменил бы тебе того.
То есть Томаса. Он почувствовал, как в нем закипает гнев, удар кнута изнутри наружу.
— Я тебя ни о чем не просил. И заменять никого и ничего не требуется.
— Вот-вот, именно поэтому, — ответила она.
— Я не считаю аборт убийством, — сказал он, — но все равно вокруг тебя, куда ни глянь, всюду смерть.
— Так было и до того.
Внезапно она повернулась лицом прямо к нему, так что шрам оказался совсем рядом; лиловый, гневный, растянутый рот извергал ругательства и ранил сильнее чем тот, настоящий, — рот, говоривший другим голосом, более низко, ожесточенно, хрипло; он услышал об американских фильмах, которых он конечно же насмотрелся, о расколотых детских головках и ведрах с убитыми зародышами и что все это идиотская пропаганда, и внезапно ему вспомнилось ее лицо, каким он увидел его, когда она танцевала, лицо менады. Смысл того, что она говорила, плохо доходил до него — что-то насчет его попыток ворваться в ее жизнь, ну а ей никто не нужен, никто и никогда, зря она с ним связалась, и вообще она никогда и ни с кем… и постоянным припевом звучало слово «уходи», ради Бога уходи, обманщик, насильник… А потом она убежала, а потом вернулась, дала ему пощечину, причитая и ругаясь, и вдруг смолкла, так что в памяти у него запечатлелась именно эта картинка — женщина, стоящая перед ним с открытым ртом и кричащая без звука; сколько она так простояла, он не мог бы сказать, и после ее ухода он еще долго сидел онемело на каменной скамье — человек среди колонн, львов, крылатых женщин с окаменевшей грудью.
Но вот он заметил, что на него уставилась стайка детей; тогда он встал и пошел прочь, понимая, что на самом деле он не уходит, а спасается бегством и что это бегство будет продолжаться до самого вечера. Он уже не мог остановить двигатель, заработавший у него в голове.
О смерти вокруг нее он не имел права говорить, это непростительно, но могла же она сообщить ему о беременности раньше? Если бы ребенок родился, то ведь это был бы и его ребенок? И если ей он не нужен, то ведь его мог бы растить Артур? Но ребенка нет, так что и размышлять не о чем. И его никогда не было, что-то в ее жизни не позволило ему стать собой, не допустило этого, его участь была предрешена давным — давно, за все рано или поздно приходит отмщение, и ничто не превращается в комедию, даже если происходит во второй или в третий раз. Всякий счет обязательно будет предъявлен, во второй, в третий, в четвертый раз, одна пародия следует за другой, и человек не родится оттого… ну вот, опять — человек! Человека не было, было только прошлое, которое все болит и болит, вечно, всегда и везде. Разница лишь в том, что страны, в отличие от людей, могут страдать целую тысячу лет.
Он прошел вдоль Ботанического сада к вокзалу. Здесь он сел на скамейку в большом пустом зале наверху, под самым стеклянным потолком, где несколько стариков читали газеты. На полу лежала разорванная страница какой-то газеты. Очередное похищение. Не успели освободить одного, как похитили другого, но теперь за него требовали выкуп. Артур скомкал бумагу. Какой смысл читать, пусть сами разбираются. После этого несчастного наверняка похитят и третьего, и четвертого. Он подошел к большому стеклу, через которое виднелся тропический лес — посаженные прямо внутри вокзала деревья и цветы: мимо них пассажиры шли к платформам, откуда отправлялись скорые поезда на Севилью, Аликанте, Валенсию. Но его не тянуло в Аликанте, его тянуло домой. Эрна предупреждала его. Плохая новость. Женщины всегда обо всем догадываются заранее. Домой? Но у него нет дома, такого, как у других. Может, с его стороны это как раз и было попыткой обзавестись домом? Но отсюда надо уезжать, прочь, прочь из этого города. На этот раз он не смог справиться с Испанией. На север, на север, может, подвернется конкретная работа. Может, где — нибудь идет подходящая война. Для съемок мира безымянных вещей сейчас не время. Он выпил коньяку в вокзальном буфете, здесь наливали такую порцию, что на ногах не устоишь. Чем заняться? Лучше об этом не думать. Она ушла. Он ее никогда больше не увидит. Действительно, невежливо выхватывать газету у дамы из-под носа. Как ему сказала бабушка? Будьте осторожны. Наверное, с ней не все в порядке. Пожалуй, правда. Эрна не одобрила бы его действий. Но что он, собственно говоря, сделал-то? Некоторые решения, касающиеся твоей жизни, принимаются в рамках других жизней, причем не сегодня, а десять, двадцать лет назад, в предыстории, к которой ты не имел никакого отношения. Что-то подолгу дремлет, что-то живет в другом человеке, пока не найдется кто-то, кому это можно передать; существуют такие формы зла, которые не изгнать из мира: до поры до времени они сидят в тайниках, невидимые раны, зародыши болезней, дожидающиеся своего часа. С чьей-то конкретной виной это никак не связано, виноват был кто-то, когда — то, в самом начале цепочки, но потом вина разрослась уже сама по себе, часть ее могла достаться любому, здесь никто не застрахован. «Заменять никого и ничего не требуется». — «Вот-вот, именно поэтому». К черту сентиментальность, вставай — и в город. Прощание. Отвергнутый любовник выпивает еще рюмку.
Картина Хоппера, человек за стойкой бара. Где моя шляпа? На картинах мужчины всегда в шляпах. И с сигаретой. С того места, где он сидел, была видна его гостиница. Самое правильное — это лечь в постель, ведь прошлой ночью он так плохо спал. В гостинице он сказал, что завтра уезжает. Миссия завершена. В номере страшная жара. Телевизор, показывают мужчину, взят в заложники, совсем молодой парень. Через двадцать четыре часа его расстреляют, если правительство не сделает того, чего оно, разумеется, делать не станет. Иными словами, смертный приговор. Его сестра. Его невеста, светлые волосы, широкое лицо, прямо из греческой трагедии, на нем начертана близящаяся драма, и уже ничего не изменить, примитивное выражение горя и рока, человеческое лицо, нет, это слишком. Но никуда не деться, здесь все настоящее. Лучше не смотреть. Он сел на край кровати и стал смотреть. Густые светлые волосы растут прямо изо лба, и как это рот может быть таким, неподвижно-открытым, так что видны все зубы, конечно же они убьют его, они всегда так поступают. Он был мертв еще до того, как родился. А потом снова месть, когда-нибудь, через много лет. Должно быть, Артур заснул, потому что, когда он очнулся, телевизор все еще работал, реклама автомобилей, голая девица в машине выкидывает через окно трусики. Никакой трагической маски, раздетое лицо человека, которого продают и покупают. Ты похож на манекен. Кто это сказал, Эрна? Нет, это его собственные слова, я похож на манекен. Теперь с экрана телевизора ему улыбался стиральный порошок, а вот и просвечивающие, выложенные рядочком креветки под тончайшим слоем дробленого льда. За окном уже стемнело, вокруг площади взошла тысяча неоновых солнц. Артур позвонил Даниэлю, не отвечает. Ну и ладно. Где же этот его бар? Бар «Никарагуа», бар на три лица. Бог его знает, может быть, Даниэль там. Улица Толедо. Вечером не вполне безопасно, нуда ничего. Выпитый днем коньяк все еще давал о себе знать. Взять с собой камеру? Вдруг что-нибудь подвернется. Ночной Мадрид, дивная картина. Так что, пожалуй, возьмем. Количество пьяных бродяг у Тирсо де Молина удвоилось, монах-писатель одиноко возвышался над ними, точно это он был здесь гостем, каменным гостем. Женщина с рыжими волосами опять сидела на скамейке; увидев камеру, она встала прямо перед ней и, чтобы скорчить рожу, растянула себе пальцами рот. Он снова не уходил, а спасался бегством, под гиканье и хохот пьяниц, вот сюда, в этот узкий переулок, где — то здесь должна быть улица Толедо, черт побери, зачем он не оставил дома эту тяжеленную камеру, все равно слишком темно, даже для него, похоже, улицы тут до сих пор освещают газовыми рожками, девятнадцатый век, точно так же было в туннеле в то утро, когда он возвращался после ночи у нее, коридор с газетами, лучше бы он остался в Японии, тамошних монахов ничто не волнует, сидят себе да поют, и не надо блуждать по узким улочкам, такое впечатление, что все против него, но нет, вон большая площадь, он ее знает, триумфальная арка из неоновых прожекторов, отвратительно-белый, словно мел, свет, опять нехорошо. Где — то здесь и есть этот бар, надо перейти улицу, затем налево, неопрятная гостиная, в баре места еще меньше, чем ему запомнилось, он с трудом поместился со своей камерой. Все три табурета у стойки оказались заняты. Даниэля не было. «Я всегда хожу туда, если хочется поискать мою ногу».