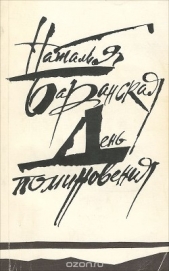День поминовения
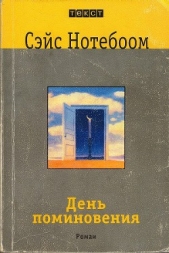
День поминовения читать книгу онлайн
Действие романа происходит в 90-х годах XX века в Берлине — столице государства, пережившего за минувшее столетие столько потрясений. Их отголоски так же явственно слышатся в современной жизни берлинцев, как и отголоски душевных драм главных героев книги — Артура Даане и Элик Оранье, — в их страстных и непростых взаимоотношениях. Философия и вера, история и память, любовь и одиночество — предмет повествования одного из самых знаменитых современных нидерландских писателей Сэйса Нотебоома. На русском языке издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако настоящая опасность кроется совсем в другом, настоящую опасность представляет небольшая группа беспощадных убийц: они создают напряженность в повседневной жизни, взрывая бомбы, стреляя людям в спину, вымогая деньги, их сторонники одержимы ненавистью, это легион смерти, и он не отступит до тех пор, пока вся страна не покроется страхом, точно плесенью, да и тогда ничего не изменится. В газетах Артур читал имена все новых и новых жертв; отмеряя километры безлюдных дорог, слушал по авторадио возбужденные голоса обозревателей и комментаторов и, вероятно, из-за этих страшных новостей время от времени снижал скорость, а порой и делал остановку, чтобы выйти из машины, отойти от дороги, почувствовать под ногами эту ни в чем не повинную землю, поснимать ее камерой, записать ее звуки. Сушь, безлюдье, шорох колючих растений при дуновении ветра, шум далекого трактора, крик совы — сипухи. По вечерам он останавливался в маленьких придорожных гостиницах, смотрел вместе с другими постояльцами телевизор, демонстрации с требованием отпустить человека, которого более пятисот дней держат в темной норе, демонстрации их оппонентов: люди в масках, швыряющие камни и бутылки с зажигательной смесью. Столько крови — слишком высокая цена за любую землю. Однажды в вечерней программе подводились итоги за текущий год: вот трупы, вот остовы сгоревших автомобилей, говорившие о страсти к уничтожению даже больше, чем неестественно изогнувшиеся, беспомощные, истерзанные очертания человеческих тел.
Сколько времени прошло после того разговора с Элик близ бывшего пограничного ручья, вечность, три месяца? Как она сказала? «Попытайся увидеть это в комическом свете». Тогда он не понял ее, не понимал ее и теперь, и не один он был такой. Телевизор стоял в полутемном холле маленькой гостиницы, на экране — розовая разверстая плоть и алая кровь, но страшнее всего звук, гул, которым каменные стены без обоев и полы без коврового покрытия отзываются на слова, летящие из телевизионного динамика, в голосах — какой-то механический призвук, грозные раскаты; звуки из телевизора смешиваются со вздохами и руганью зрителей в гостиничном холле, где он сидит, точно окруженный невидимым хором, и размышляет об ответе Элик на его слова о том, что он не понимает ее.
«Кому станет легче, если ты скажешь, что это трагично?» И еще: «Через двести лет, когда эмоции исчезнут, будет вспоминаться только идиотизм нашего века, какие-то претензии, рассуждения, оправдания».
Ты права, хотел он крикнуть ей сейчас, но кому лете оттого, что ты это знаешь? Ведь от такого знания становится только страшнее? Мало того что люди сегодня должны страдать, но пройдет время, и эти страдания окажутся бессмысленными. Ведь единица измерения жизни — не твои два века, а пятьсот дней, те пятьсот дней, что человек проводит под замком в своем собственном склепе, историческое время кажется непристойной абстракцией по сравнению с человеком, которому прямо в ресторане вышибли мозги, и абстрактным следующим поколениям незачем смотреть на эти мозги по телевизору, как на них смотрят сейчас люди в гостиничном холле, следующие поколения проглотят нынешний период истории в виде статистических данных, цифр, непереводимых на язык чувств, они прочитают исторические трактаты с примечаниями и ссылками. К тому времени по счетам уже будет оплачено. Но и об этом Элик тоже говорила в тот раз. В один прекрасный день не останется никого, кто помнит, и лишь тогда можно будет смеяться по-настоящему. Интересно, смотрит ли она сейчас телевизор, думал Артур, но это можно будет узнать, только встретившись с ней. Она исчезла, точно так же, как в тот вечер в Любарсе, когда он по-идиотски остался один в ресторане. Старуха, весь вечер просидевшая рядом с ним, сжимая носовой платок, ненадолго исчезла и вернулась с двумя рюмками, одной менее полной — для себя и второй, полной до краев, для него.
— En este mundo no hay remedio, — сказала она, — vivimos siempre entre asesinos у demonios. [46]
Демоны. Сказанное по-испански, слово вдруг приобрело неожиданный смысл: порода людей, которые живут в нашем же мире, демоны в человеческом обличье, сидящие рядом с тобой в баре или в самолете и знающие что-то настолько точно, что постоянно носят в себе смерть, и свою, и чужую.
На следующее утро он снова позвонил Даниэлю и на этот раз застал его.
— Ты где? Ты всегда знаешь, когда приехать. Телевизор смотрел? Вся страна переживает.
— Я уже совсем близко. Сегодня доеду до Сигуэнсы.
— Не спеши, приезжай через денек-другой. У меня дом полон народу, а выгнать я их не могу. У них нет документов. Ничего, дня за два, за три разберусь. А ты пока навести юношу в Капелле дель Донсель, попроси у него почитать его книжку. Ты же помнишь нашего Донселя?
— Разумеется.
Он помнил Донселя — скульптуру в главном соборе Сигуэнсы: юноша, сидящий на своей собственной могиле с книгой в руке.
— А через три дня добро пожаловать. Денег тебе хватит?
— Не беспокойся.
— До тех пор можешь остановиться в отеле «Де Медиодиа». На вид дорогой, но цены — говорить не о чем. Самое большее — пять тысяч песет. Но это за одно название не жалко. Я тебе туда позвоню, или ты мне. Ты зачем приехал-то? Какие-то дела?
— Нет-нет, все как обычно.
Он сказал неправду, и услышал это по звуку собственного голоса. Даниэль тоже уловил фальшь, потому что спросил:
— Я могу тебе чем-нибудь помочь?
Артур колебался.
— Где можно разыскать человека, который пишет диссертацию по истории?
— Смотря в какой области. Тут у них хватает всякой истории, сам знаешь. Национальный архив находится здесь, в Мадриде, на улице Серрано. И еще есть архив в Симанкасе, отсюда километров двести. Там разложена по полочкам вся Испания, кроме, кажется, средних веков. И еще существует уйма местных и церковных архивов. Гражданская война хранится где-то совсем в другом месте. А профсоюзное движение в третьем. Бумаги, бумаги и бумаги, хватит на всех, только надо знать, что именно тебя интересует. Нашиархивы хранятся в Севилье, в Архиво Реаль-де-лас-Индиас. Но ты не их ищешь, как я понимаю.
Последняя фраза не была вопросом, Даниэль правильно все понимал. Наши архивы — архивы Никарагуа. И если Артур не захочет рассказывать, в чем дело, то его друг не станет ни о чем расспрашивать. Но Даниэль, похоже, опять все правильно понял, потому что произнес ободряюще:
— Ладно, cabron, желаю удачи, а мне пора к моим подопечным. Советую начать с пункта первого, с улицы Серрано. Хотя бы потому, что близко. Кто-то всегда выигрывает лотерею, а другие пишут не ту одну-единственную цифирьку, вечная загадка. Suerte, созвонимся.
Подопечные — это, конечно, нелегалы, приехавшие в Испанию в поисках работы. Даниэль («мое второе имя — Хесус, это же неспроста») был этаким современным святым, который наверняка дал бы Артуру хорошую затрещину своей железной рукой, если б услышал от него такую характеристику своей персоны. Suerte — значит «удачи», a cabron — «козел», но даже это слово из уст Даниэля звучало необидно.
Подъехав к Сигуэнсе, Артур увидел купол собора. К Донселю, почему бы и нет?
«Оттягиваешь момент». Голос Эрны. Она над ним смеялась, и он этого заслуживал. Совсем скоро его фантастические построения станут реальностью. Нет сомнения, что он ее найдет. Среди миллионов испанцев он ее найдет, это точно. Но что потом?
В соборе царил полумрак, чтобы войти внутрь, надо было, как ни странно, на несколько ступенек спуститься вниз, словно земля осела под тяжестью этой огромной постройки. Здесь шла служба, мужской хор, одетый в черно-красное, сидел на высоких скамьях и полупел, полубормотал псалмы, гулко разносившиеся по пустынному собору. Артур взглянул на бледные лица, на губы, произносившие слова сами по себе: глазам не нужно было сначала читать их по молитвеннику. Все это было знакомо, все это было так же старо, как надгробные памятники в нишах, и к одному такому памятнику он и направился. За те годы, что прошли после их последней встречи, юноша не пошевелился ни на миллиметр, Артур обнаружил, что помнит буквально каждую черточку на лице этого оруженосца королевы Изабеллы. [47]Он так и лежал здесь, опершись на локоть, и за все пятьсот лет не перелистнул ни единой страницы своей книги. Погиб при осаде Гранады в 1486 году. Его едва ли можно назвать жертвой войны, и трудно поверить, что тело его выглядело так же, как у тех погибших, которым никогда не воздвигнут иного памятника, кроме как на серой газетной бумаге, где напечатали их фотографию, и никто не будет смотреть на них через пятьсот лет, и никогда на их лицах не появится такого вот отрешенного выражения. Этот юноша уже давно забыл о своей смерти, он лежал тут, как зеленое поле близ Любарса, — картинка, которая должна нам о чем-то напоминать, но уже сама забыла, о чем.