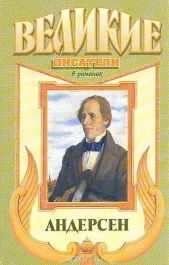Новый Мир ( № 2 2009)
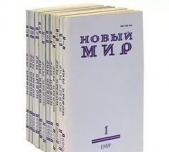
Новый Мир ( № 2 2009) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вот обратный пример. В книге “Бодался теленок с дубом” Солженицын говорит о том, что годы и годы писал и прятал написанное в убеждении, что лишь после смерти дойдут до читателя его книги, “сохраненные верностью и хитростью друзей”. И будет это, когда “вздрогнет и <...> обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы, и туда-то сразу двинется наша подпольная литература”.
В горбачевскую эпоху все так и произошло: появился “пролом свободы” и туда ринулась литература. Но разве повесть “День зэка” неизвестного автора, явившаяся в общем потоке, могла бы произвести на общественность столь же оглушительное впечатление, как повесть, прорвавшаяся на страницы “Нового мира” на излете хрущевской оттепели?
Случись так, что не было бы прорыва Солженицына в печать (что можно рассматривать как чудо) — не было бы беспримерного противостояния писателя и власти, не было бы Нобелевской премии, и антисолженицынской кампании внутри СССР, и мощной поддержки Запада. Не было бы такой солженицынской судьбы и легенды.
Волков во многом прав, когда говорит, что публика потребляет в первую очередь миф о художнике. Вопрос в том, как возникает этот миф: стараниями художника или помимо его воли? Волков склонен поставить целенаправленные усилия художника на первое место и делает это довольно безжалостно.
Вот Шаляпин в 1909 году в дни выступлений в Парижской опере печатает в газете обращение к французской публике, в котором “позиционирует себя как политического диссидента, а не просто певца”, — и Волков считает, что “со стороны Шаляпина это был умелый ход <…>. Подобным образом певец ловко балансировал всю свою жизнь. (В этом ему позднее, в последней четверти ХХ века, пытались подражать и другие знаменитые российские музыканты, например виолончелист Мстислав Ростропович)”. Ехидное замечание о Ростроповиче находим и в другом месте: когда Волков рассказывает, как на панихиде по Андрею Тарковскому в парижском храме Св. Александра Невского Ростропович играл Баха прямо на ступенях храма — “впечатляющий ритуальный жест, на которые Ростропович всегда был великий мастер”.
У Ростроповича мы действительно найдем несколько жестов, которые недоброжелатели трактовали как умелый пиар: игра на виолончели на фоне разрушаемой Берлинской стены; появление в Москве в дни августовского путча: весь мир обошла тогда фотография Ростроповича, придерживающего автомат спящего на его плече защитника Белого дома. Вопрос вот в чем: откуда идет этот жест? Может ли художник испытать порыв чувств, эмоциональный подъем, заставляющий совершать те или иные поступки, которые, в конечном счете, работают на легенду, или это всегда расчет? Но как в таком случае рассчитать, садясь на летящий в Москву самолет, что ГКЧП проиграет? А вдруг выиграет? А вдруг Белый дом будут брать штурмом и кто тогда поручится за жизнь музыканта?
Об уходе Толстого у Волкова сказано так: “Толстой, готовясь к созданию своего посмертного мифа, разыграл на всемирных подмостках трагедию короля Лира, отказавшегося от своих владений и бежавшего из дому”. Если Волков считает, что уход Толстого — это спектакль с целью создания “посмертного мифа”, то почему бы не сказать, что с той же целью Есенин и Цветаева повесились, Маяковский застрелился, а Мандельштам добивался своего ареста?
Но нельзя не заметить и несомненной связи между всесилием власти, самостоянием художника и героическим мифом о нем. Миф не возникает на пустом месте. Художник не в силах его создать, не принеся себя в жертву. Но от честолюбцев и конформистов боги жертву не принимают. Для мифа нужна почва. Без давления власти нет героического мифа — но нет и героя. Не потому ли Волков так заворожен сталинской эпохой, что она дала трагические конфликты и мощные творческие фигуры, равных которым нет и не может быть в нашем времени? Как ехидно заметил Константин Леонтьев, “мученики за веру были при турках; при бельгийской конституции едва ли будут и преподобные”.
Нами лирика...
замерз наш пруд
а я и не приметил
как изменилась парадигма
Не под тем углом
Все грамотные графоманы имеют обыкновение ссылаться на одно из последних стихотворений Велимира Хлебникова:
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.
А почему, собственно, горе взявшему неверный угол к каким-то стишкам? О какие камни он разобьется? В чем трагедия? Неужели всего лишь в том, что взявший неверный угол лишит себя каких-то прекрасных эстетических переживаний? И что это за угол такой? «Вы ко мне не тот угол взяли» — это каждый может сказать.
Общеизвестно — для стихотворцев Серебряного века поэзия была действом мистическим, священнодействием (хотя бы и богоборческим), пророчеством и волхвованием. Хлебников всерьез полагал, что его литературные опыты имеют всемирно-историческое значение, и его предупреждение о неверном угле и подводных камнях — предупреждение самозваного пророка о неверном толковании пророчества и обещание всяческих бед насмешникам.
Нынешний стихотворец на пророческое или мистико-магическое значение своих писаний вроде бы не претендует, и все его домогательства сводятся к признанию их эстетической — в крайнем случае общественной, политической или этической — значимости.
Тем не менее инвектива — «не под тем углом меня читаете!» — с вооружения не снята.
Вот аксиома: для любого наперед заданного текста найдется такая система эстетических (или контрэстетических) воззрений, для которой данный текст будет по крайней мере, эстетически значимым.
Верно и обраное: всегда найдется система, для которой данный текст будет вполне ничтожным.
Аксиома спорная, но небессмысленная.
Вот Аполлон Григорьев: Пушкин — наше всё.
Вот Дмитрий Писарев: ничтожество ваш Пушкин.
Теперь-то мы знаем, что Пушкин наше все, а Писарев дурак. Но Писарев вовсе не был дураком! Система у него была такая, как мы бы сегодня сказали — контркультурная.
Разные системы плохо уживаются в одном времени, тем более в одной голове.
Как бы все было замечательно просто, если бы из двоих спорщиков один непременно оказывался бы дураком, а еще лучше — негодяем!
Нельзя быть последовательным.
Последовательный поклонник поэтики Арсения Тарковского если и может считать поэтом Игоря Холина, то — второсортным. И наоборот, для последовательного поклонника Холина поэтика Тарковского должна выглядеть сугубыми красивостями.
Поклонницы поэзии, да и поэтессы не столь уж давнего прошлого отчетливо делились на две враждебные расы «ахматовок» и «цветаевок».
Со временем противоречия сглаживаются, но не отменяются.
Не заражают!
Маяковский, отвечая на выкрик из зала: «Ваши стихи не волнуют, не греют и не заражают!», отвечал: «Мои стихи не море, не печка и не чума» — и, конечно же, лукавил. Потому что все устройство стихов — хоть его, хоть чьих — драматургия, образный строй, ритм, рифмовка, — все это имеет одну-единственную цель — заражать. Художественность равнозначна заразительности.
С поправкой на хромоту любых аналогий можно сказать, что любители стихов (и стихотворцы в том числе) — это люди с пониженным иммунитетом, а волны сменяющихся, набегающих друг на друга стилей подобны волнам эпидемий.