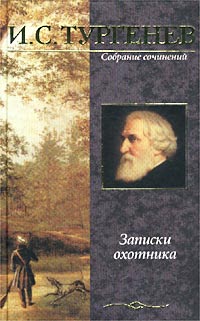Чары. Избранная проза

Чары. Избранная проза читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава вторая
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ МНИТЕЛЬНОСТЬ
Ненависть к стене
Зябкое чувство нежизни с детства было одним из самых сильных моих чувств, но не скажу, чтобы оно преследовало меня постоянно: нет, оно появлялось лишь время от времени и всегда неожиданно. К тому же оно было весьма капризным, изменчивым и прихотливым и — как многие чувства в русском человеке — зависело даже от погоды. К примеру, оно полностью исчезало в хмурые, пасмурные дни, во время затяжного дождя или выбеливающего улицу и двор снегопада, хотя многие склонны думать, что именно осеннее и зимнее ненастье, должно быть, порой расцвета для экзистенциальных чувств. Мое же чувство, напротив, расцветало при солнечной погоде, но стоило обозначиться в небе низким лиловым облакам, похожим на расплывшиеся по суконному врезу письменного стола чернила, зарядить дождю, клубящемуся в воздухе роем колючих мелких иголок, или повалить хлопьям мокрого снега, и я переставал быть экзистенциалистом и превращался в обычного скучающего ребенка.
Этот ребенок бесцельно слонялся по комнатам, поправляя сползавший чулок, волоча за собой рыжего плюшевого медведя с оторванным ухом и отстающей пуговкой носа (видны черные нитки!), подаренного на прошлый день рождения, и таская на веревке железный самосвал с погнутой дверцей, роняющий из кузова обклеенные картинками кубики, за которыми не хочется нагибаться, а хочется зашвырнуть их ногой подальше под диван.
Из комнаты — в кухню, из кухни — в комнату, и так без конца, пока мать не скажет с бессильным укором: «Перестань! У меня голова болит. Лучше сядь в кресло и почитай». Но читать также не хочется, и страницы словно слипаются, и лень их переворачивать по одной, а хочется перевернуть все сразу и с досадой захлопнуть книжку. «Господи, ну что мне с тобой делать!» — рассерженно отнимая у меня книжку, воскликнет мать. Но сделать ничего нельзя, потому что виною всему бесконечный дождь, из-за которого с утра не выйти на улицу, и ей остается лишь с мольбою смотреть на меня и с отчаяньем в голосе пытаться меня унять, урезонить и образумить.
Но вот сплошной шум дождя сменяется редким стуком капель, падающих с карниза, сквозь прогалину облаков проглядывает лимонно-золотистый лучик, и мать, посмотрев в окно, с облегчением произносит: «Наконец-то!» — и начинает меня одевать, чтобы выпустить во двор. Я нехотя просовываю голову в ворот застиранной, рубашки, пахнущей мылом, оцинкованным корытом, материнскими руками и чем-то моим и не моим, напоминающим мне себя таким, каким я был на год младше. Я натягиваю толстые чулки, за резинки, пристегивающиеся к поясу, который кажется мне постыдно девчоночьим, надеваю короткие вельветовые штаны с ремешками крест-накрест и зашнуровываю ботинки, чувствуя на них тяжесть вечных резиновых калош. «Ну, отправляйся», — мать целует меня в макушку, прижимая к полосатому переднику мою стриженую голову, и легонько подталкивает в спину. Я распахиваю тугую, скрипучую дверь, выбегаю во двор и, уже заранее зная, что сейчас возникнет это, нарочно не смотрю в сторону серой каменной стены.
Нарочно не смотрю, не поворачиваясь и держа голову так, как, будто передо мной пропасть и мое единственное спасение — не поддаться жгучему желанию заглянуть в нее.
И вот я озабоченно измеряю калошами глубину луж, опасаясь промочить ноги и в то же время бесстрашно поддразнивая себя тем, что вода просачивается мне в ботинок. Затем ставлю ногу поперек ручья, чтобы направить его в новое русло, и высверливаю каблуком воронки в хлюпающей и чавкающей жиже. Но навязчивое это все равно возникает, и после беспомощных попыток себя обмануть я с обреченностью поворачиваю голову туда, где высится серая стена, и с замиранием сердца смотрю на нее, словно заглядывая в бездонную пропасть.
Ее высота, огромность и мрачность завораживают меня так же, как обрывающийся в глубину край пропасти, и я смотрю вверх с тем восторгом, ужасом и отвращением, с какими люди падают вниз.
Те последние судорожные усилия зрения, с которыми я добираюсь до вершины стены, вызывают во мне приступ тошноты и головокружения, я покачиваюсь от слабости, в глазах у меня плывет, и стена в ответ на это как бы предательски раскачивается и кренится. Я вздрагиваю от мысли, что стена упадет и раздавит меня, и эта угроза заставляет втянуть голову в плечи, сжаться в комок и еще сильнее возненавидеть стену. Я, такой маленький и жалкий, ненавижу ее всей душой, я не хочу, чтобы она меня раздавила, но в то же время испытываю необъяснимую любовь к ней, означающую, что я — хочу. Хочу испытать на себе ее чудовищную тяжесть, огромность и мрачность, хочу даже погибнуть под обломками обрушившейся стены, потому что это будет блаженная гибель — блаженная от сознания моей любви.
Угадывал, распознавал…
Всем этим чувствам, необъяснимым для меня в детстве, я сейчас нахожу объяснение в том, что за те короткие пять лет, которые я прожил на свете, я ничего не встречал выше этой стены, и поэтому ее ноздреватый серый камень, покрытый мелкими трещинками, представлялся мне веществом самой жизни. Да, да, стена-жизнь: именно это неосознанное чувство вынуждало меня украдкой приближаться к стене, гладить ее шершавую поверхность, неприятно покалывающую подушечки пальцев, прижиматься к ней щекой и тихонько плакать от невыразимой, мучительно сладкой грусти.
Была ли это грусть оттого, что я живу? или грусть оттого, что я когда-нибудь умру? или просто грусть без всякого повода? — не знаю. И скорее всего я плакал от непреодолимой потребности плакать, какая бывает лишь в детстве, и каменная стена-жизнь с холодным безразличием, бесстрастно и безучастно прислушивалась к моим слезам.
При этом солнце, проглядывавшее после дождя, всегда оставляло ее в тени, и за весь день она ни разу не была освещена хотя бы наполовину Может быть, это случалось ранним утром, когда я еще спал, крепко зажмурившись от утреннего света, проникавшего сквозь веки и вызывавшего во мне упрямое нежелание просыпаться. Но стоило мне встать с кровати, выпить горячего молока, немного подгоревшего по рассеянности матери, наскоро одеться и выбежать во двор, и лишь верхний угол стены слегка розовел под солнцем. Остальная же ее часть была погружена в глубокую сумрачную тень, от которой потягивало сырым кирпичом, застарелой кошачьей мочой и кисловатой ржавчиной пожарных лестниц. Вскоре сумрачная тень окутывала и этот последний уголок, и тогда весь дом-великан становился похожим на угрюмый ночной призрак.
Зато маленький двухэтажный домик, наоборот, весь раскрывался, распахивался навстречу солнцу, и я не помню случая, чтобы его покрывала тень. Выбегал ли я во двор утром, днем или вечером, он всегда успевал выставить на солнце фасад или одну из боковых стен, отчего в окнах жарко краснела герань, раструб патефона сверкал, как начищенная пожарная каска, и в стеклянной банке горчично светился мутный настой чайного гриба.
Иными словами, веселенький домик в отличие от своего мрачного соседа под солнцем становился еще веселее, и это странным образом роднило меня с ним. Роднило не потому, что я чувствовал себя таким уж завзятым весельчаком, — нет, в детстве я испытывал большую склонность к слезам («Плакал из-за каждого пустяка» — по отзывам близких), чем к веселому и беззаботному смеху, а потому что — роднило, и все тут, и никаких других объяснений я привести не могу.
Теперь-то я знаю, что порою, окружающие нас предметы — кресла, диваны, шкафы, дома — как бы запечатлевают в себе наше внутреннее выражение, нашу скрытую физиономию, но тогда я просто не отличал себя от домика. Мне не удавалось внушить себе, что он — это вовсе не я, а я — вовсе не он, и если стена дома-великана была моей жизнью, то прилепившийся к ней двухэтажный домик был как бы мною самим. Я безошибочно угадывал, распознавал в нем себя, и это, при всей моей экзистенциальной мнительности, еще раз подтверждало, что я живу — существую — на свете.