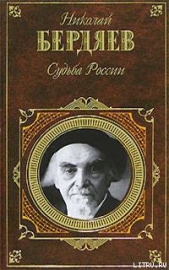Новый Мир. № 2, 2000

Новый Мир. № 2, 2000 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наши впечатления о присутствии этого материнского начала в истории русской святости определяются обстоятельствами, которых нельзя не назвать весьма контрастными. С одной стороны, среди канонизированных святых Русской Церкви женщин поразительно мало; с другой стороны, как раз материнская и милосердная женская святость в миру являлась темой очень ярких и необычных текстов житийной литературы, занимающих весьма почетные места в истории древнерусской словесности. Это прежде всего принадлежащее XVI веку житие свв. Петра и Февронии, обильное фольклорными мотивами полусказочного характера. Князь Петр, представленный как драконоубийца, женится на деве Февронии, простой крестьянке, сумевшей не только исцелить его от тяжкого недуга, причиненного ядовитой драконьей кровью, но и преодолеть своей чистотой, но также умом и властной силой воли, сословные препятствия к их браку; оба они кончают свой век в монашеском чине, однако ее роль воплощенного идеала любви оказывается в некотором смысле важнее иноческой парадигмы. В конце мы читаем: «…Егда же приспе благочестное их преставление, умолиша Бога, да во един час будет преставление их. И совет сотворише, да будут положены оба во едину могилу». Те, кто предают их погребению, считают, что монаха и монахиню нельзя погребать вместе; но чудо, повторяющееся три раза, заставляет исполнить собственную волю покойных. Св. Феврония — это образ женственной любви, которая благодатна и потому выше закона.
Напротив, св. Юлиания Лазаревская († 1604) — персонаж очень реальный, не имеющий никаких сказочных черт; ее житие написано ее сыном, муромским боярином Каллистратом Осорьиным, и походит по тону на мемуары. Как св. Елисавета Венгерская на Западе, св. Юлиания — мужняя жена и мать своих детей, распространяющая свое материнское чувство на всех нуждающихся; как и ее западной сестре, ей приходится проявлять для этого немалую бытовую хитрость.
«Егда же прихождаше зима, взимаше у детей своих сребреники, чим устроити теплую одежду, и то раздая нищим, сама же без теплыя одежды в зиму хождаше, в сапоги же босыма ногама обувашеся…»
«Почитание св. Юлиании растет в наше время в связи с литературным распространением ее жития, популяризированного многими русскими писателями. Юлиания Лазаревская — святая преимущественно православной интеллигенции» (Г. П. Федотов). Необходимо отдавать себе отчет в том, что св. Феврония и св. Юлиания доселе очень мало известны массе русского православного народа. Но их образы весьма симптоматичны.
Когда Максим Горький в статье протобольшевистского направления 1910-х годов, озаглавленной «Две души», рассуждал о «двух душах», живущих в русском человеке, причем все его похвалы доставались на долю души активной и волевой до жесткости и даже до жестокости, а все порицания — на долю души «женственной», созерцательной и недопустимо жалостливой, Мережковский не без остроумия обратил внимание на то, что сам же Горький в только что появившейся тогда автобиографической повести «Детство» представил читателям своего деда, несомненное воплощение первой «души», как чудище, а свою бабушку, воплотившую вторую «душу», как единственную утешительницу для него самого и вообще для всех вокруг нее. Мы читаем в статье Мережковского «Не святая Русь» (1916) очень эмоциональную характеристику Бабушки из горьковского «Детства»: «Бабушка вся, до последней морщинки, — лицо живое, реальное; но это — не только реальное лицо, а также символ, и, может быть, во всей русской литературе <…> нет символа более вещего, образа более синтетического, соединяющего».
Этот спор Мережковского с Горьким, в котором главным доводом служит символическая фигура бабушки, чрезвычайно характерен для русской литературы — и русской жизни. Бабушка есть par excellence та, которая «жалеет». Она в каком-то смысле еще больше мать, чем мать, потому что она более надежно удалена от мира страстей и вообще интересов, с чистотой жалости несовместимых: она уже по ту сторону. Порочная, извращенная форма материнской привязанности может стать предметом сатирического изображения, как Простакова в комедии Фонвизина «Недоросль», но бабушке такая участь не угрожает.
То, что символист Мережковский говорит в связи с Горьким о Бабушке как вещем и синтетическом символе, символе соединяющем, не удивляет. Но задолго до этого символическую роль бабушке своей героини дает такой прямо-таки до сухости трезвый реалист, как Гончаров. Его «Обрыв» кончается следующими словами о переживаниях Райского в Италии: «За ним всё стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая „бабушка“ — Россия».
Советское дитя, воспитанное в атеизме, однако получившее от бабушки — непременно от бабушки! — тайное крещение и первые впечатления религиозного характера, есть один из постоянных мотивов и «общих мест» советской жизни. Эта новая роль бабушки находится в полном согласии с ее вековой ролью.
Некоторый субститут бабушки — няня; слово, ее обозначающее, в форме диминутива («нянюшка», как и старинное «мамушка») представляет собой ритмический дублет слова «бабушка».
И кто же из нас не помнит, как Пушкин создавал поэтический миф о нянюшке Арине Родионовне как воплощении своей Музы?
Этому женственному — богородичному, материнскому и бабушкиному — миру милосердия противостоит традиция, выразившаяся, например, в знаменитом «Домострое». Примечателен не жанр этого памятника, имеющий в европейской культуре бесчисленные параллели от «Oikonomik б oV» Ксенофона до «Il cortegiano» Кастильоне и «El heroe» Грасиана. Примечательна не сама по себе репрессивная установка при рекомендациях главам семей: физическая расправа мужа над женой оставалась возможной и на Западе в самый расцвет культуры Hohe Minne, а телесные наказания для несовершеннолетних, и в семье, и в школе, оставались вполне обычными вплоть до совсем уж недавних времен. Конечно, неторопливая обстоятельность, с которой «Домострой» обсуждает практические детали этого занятия, — «соимя рубашка, плеткою вежливенько побить, за руки держа», — действует на наши нервы; но он и предназначен не для современного читателя. Значительно специфичнее и принципиальнее другие обстоятельства. «Домострой» написан от начала до конца как подобие монашеских уставов и наставлений монахам; иначе говоря, он не допускает какого-либо содержательного различия в призвании и форме жизни между монахом и семейным человеком, за единственным исключением в том, что для второго в контексте этого монашеского в своих общих чертах образа жизни допускается брачное сожитие и деторождение. (Кстати, это свойство «Домостроя» заставляет несколько по-иному увидеть и тему телесного наказания; таковые предполагаются и западными монашескими уставами, современными «Домострою», о практике disciplina заходит речь, например, и у Тересы Авильской.)
Вообще перспектива «Домостроя» отличается последовательным монизмом и не допускает никаких онтологических дистанций — например, между монашеским и мирским образом жизни, но также между духовным и материальным уровнями бытия вообще. «В дому своем всякому християнину во всякой храмине святыя и честныя образы, написаны на иконах по существу, ставити на стенах, устроив благолепно место, со всяким украшением и со светилники <…> а всегда чистым крыльцем обметати и мягкою губою вытирати их, и храм тот всегда чист имети; а к святым образом касатися достойным, в чисте совести <…> и во всяком славословии Божии всегда почитати их со слезами, и с рыданием, и сокрушенным сердцем исповедаяся, просяще отпущения грехом». Весь этот текст, приводимый нами с сокращениями, представляет собой одну-единственную длинную фразу, в синтаксических рамках которой чистота совести и опрятность, достигаемая «чистым крыльцем» и «мягкою губою» — словно бы одно и то же, а молитва о прощении грехов не просто совершается пред иконами, а обращается к иконам («почитати их со слезами» — словно бы слезы были обращены к самому вещественному составу иконы). На это можно было бы возразить, что «Домострой» — все же не богословский трактат, а практические рекомендации хозяину; но в том-то и дело, что такие жанровые разграничения самой сутью «Домостроя» молчаливо отклоняются, и это гораздо поразительнее, чем его «репрессивная» брутальность. Мы только что отметили, что на Западе куртуазный культ Дамы отнюдь не исключал для феодала возможности по-хозяйски расправиться со своей женой; что ж, это были разные стороны жизни, разные ее измерения, грани, парадигматические «порядки» (ordines), сосуществующие друг с другом. Но зато «Домострой» решительно исключает возможность для жизни, как он ее рисует, иметь еще и другие, не упоминаемые им измерения и грани. То, что мы назвали онтологическим монизмом, конкретизируется в единообразии социальной перспективы; так, в отличие от аналогичных по жанру западных текстов, «Домострой» не предполагает даже сословно лимитированного адресата, он обращается не к члену сословия, а к любому «хозяину», имеющему свое хозяйство и свой дом, от царя до состоятельного крестьянина включительно, и предлагает им одну программу и парадигму поведения, единообразную бытовую культуру. И хозяйство, как оно здесь понято, требует всего человека без остатка: «Домострой» характерным образом предполагает, что и на досуге, в гостях, не должно быть других разговоров, по крайней мере для женщины, как все на те же хозяйственные темы о том, «как порядню (хозяйство. — С. А.) ведут, и как дом строят, и как дети и служок учат». Напоминаю, что самое заглавие «Домострой», словообразовательная калька греческого Oikonomik б oV, выражает ориентацию на хозяйство и жесткую, непоблажливую хозяйственность как высшую ценность и меру всех вещей. Кто остается вне парадигмы, кроме социально несвободного человека, холопа или нищего? Монаху, разумеется, не подойдут в буквальном смысле рекомендации «Домостроя» насчет супружеской жизни, — но победа «иосифлянского» направления над «нестяжательским» в русском монашестве, совсем накануне составления «Домостроя», способствовала тому, чтобы и монашество приняло хозяйственно-домостроевские черты.